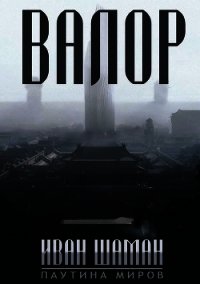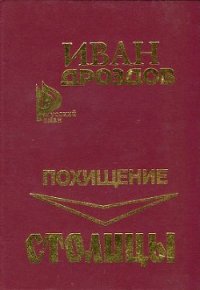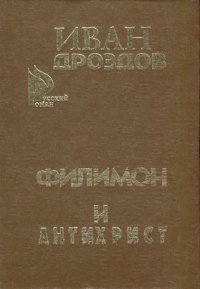ПОСЛЕДНИЙ ИВАН - Дроздов Иван Владимирович (бесплатные книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Было ясно: потяни я ниточку художников – и в движение придет вся сложная, хитросплетенная идеологическая надстройка. Люди, стоящие надо мной, потеряют покой и комфорт, и, может быть, скорчатся, как от зубной боли, люди высокие,- самые высокие,- ведь неизвестно, кому набросили на шейку бриллиантовые колье, купленные на деньги, заработанные русскими писателями, наборщиками, печатниками типографий, лесорубами и рабочими бумагоделательных комбинатов.
Знал обо всем об этом. И медлил по соображениям тактики и расчета.
Во-первых, изматывал противника, заставлял суетиться и обнаруживать себя. Во-вторых, вынуждал нервничать силы, поддерживающие Прокушева и Вагина. И чем сильнее был наш нажим, тем глубже прятались друзья Прокушева. Иные звонили мне и как бы вскользь роняли нелестные замечания в адрес директора, давая понять, что они-то уж с ним не связаны. А в-третьих, испытывал характер своих друзей, следил за их поведением и заранее оценивал боеспособность своего лагеря.
Друзья, хотя и сохраняли видимость прежних отношений, но были насторожены, ждали неприятностей. Даже Иван Шевцов однажды мне сказал:
– Чего ты там? Какую-то кашу завариваешь?
Я молчал. Пришел к нему в выходной день, хотел отдохнуть, расслабиться, а он… с явным раздражением…
– Пост у тебя большой, ум нужен государственный. В нашей жизни много такого, что хотелось бы исправить, да зубы можно обломать. И делу не поможешь, и себя сгубишь. А каково будет нам, русским писателям, если «Современник» в чужие руки уплывет?
– Да ты не беспокойся, роман твой мы заслали в типографию, я на той неделе сигнальный экземпляр жду.
– Роман – хорошо, за него спасибо, но судьба писателя продолжается. И не только моя. Ты бы, Иван, помнил об этом. Сколько глаз на тебя с надеждой смотрят!
– Ладно, Михалыч, не беспокойся. Дел ты наших не знаешь, а совет твой – быть осторожным – пригодится. Мне многие совет этот подают. Вот Егор Исаев по вечерам звонит: ты, говорит, будь гибким, писателей и поэтов не отваживай, будь отцом для каждого, а не дядей чужим.
– Егора знаю. Хитрован большой, из деревни недавно, а деревенские мужички, если в столицу попадают, хвостом вилять начинают. Каждому встречному поклон низкий отвесят. Правда, есть и такие, как Викулов, но редко. Больше таких, как Алексеев, Можаев, Исаев, Сорокин твой.
– Ну, Сорокина не трогай. Он смелый и честный, а кроме того,- товарищ мой.
– Смелый?… Посмотришь, как он однажды под монастырь тебя подведет. Я лакейскую душу за версту чувствую.
– Ну ладно, Иван, не ворчи. Какая муха тебя укусила? Сорокин – парень деревенский, но он и на заводе трудился. Рабочая у него закваска. Крепкий он, как уральская сталь.
Наступила зима. И мы со Свиридовым, одетые в шубы, валенки, уезжали далеко от Москвы, углублялись в лес, жгли костер, варили кулеш.
Художника Судакова с нами не было. Отдыхали вдвоем.
Говорили мало. Я молчал, как Герасим из «Муму», а если заговаривал,- о пустяках, не имеющих к нашей деловой жизни никакого отношения. И Свиридов, казалось, делами не интересовался, и только мир писателей его занимал, особенно их вольница, жизнь без службы и вседневных обязанностей. Наводил беседы на отношения Фирсова с Шолоховым: когда тот встречался с великим писателем, о чем говорили; на мое знакомство с Полянским. И тоже,- о чем говорили, что за человек Дмитрий Степанович, какое производит впечатление.
Я краем уха слышал, что Свиридов с большой симпатией относится к Марии Михайловне Соколовой – младшей дочери Шолохова; я рассказывал, как она работает, какая это деликатная, интеллигентная женщина и какая она красивая внешне. Каждого поражают блеск ее серо-зеленых глаз, умное, несколько ироничное выражение лица. Я в детстве жил в казачьей станице на Дону и знаю, что только там встречается в женщинах такое сочетание красоты и силы, незлого лукавства и притягательного обаяния – свойств, характерных для донской казачки. Общаясь с Марией Михайловной, я всегда думал, что отец ее, создавая образ Аксиньи, как бы списал ее со своей дочери, которой в то время не было еще на свете. Свиридов не однажды мне говорил:
– Да, да, я и раньше слышал: она хороший редактор, но вы очень-то ее не загружайте.
– Она норму редакторскую без труда выполняет.
– Ну вот, норма – хорошо, а большего не требуйте. Не надо.
Спрашивал:
– Прокушев не обижает Машу?
– Вроде бы нет, но, как мне кажется, и особой нежности к ней не питает. Зато все ее у нас уважают,- в ней нет и тени высокомерия. Она одинаково внимательна к каждому сотруднику. Видимо, простота у нее от родной стихии.
Я чувствовал: Николая Васильевича интересуют мои характеристики людей, с которыми я работал, но я от них уклонялся, и если надо было ответить на вопрос, говорил скупо и по возможности доброжелательно.
На службе у нас все было тихо. Прокушев на работу вышел, но в издательство заезжал на час-другой. Видно, обивал пороги высоких людей, готовил для нас новую ловушку. Его заявление об уходе лежало на столе председателя – он его не подписывал.
И Вагин появился в издательстве, но тоже ненадолго. Картинки нам приносили на подпись без него. Они были не так безобразны, и сионистские символы исчезли.
Многие документы приходилось подписывать за директора. Такое положение мне не нравилось,- денежные дела должны быть в одних руках, и я складывал несрочные бумаги на столе, ждал директора.
Однажды Сорокин сказал:
– Он дома, но только не берет трубку. Дай-ка бумаги, поеду к нему.
Уехал утром, а вернулся после обеда. Был возбужден, весь светился. Все бумаги директор подписал и сверх денежных подписал две сорокинских: одну – об утверждении какого-то сотрудника, другую – о внеочередном выпуске какого-то поэта, в котором был особенно заинтересован Сорокин.
– Нашел ключ к нему! – рассказывал Валентин.- Он же чокнутый, любит, чтобы его хвалили. Я как начну поднимать его над всеми есениноведами, да как запущу: вы же талант, единственный из этих профессоров писать умеете! – так он голову кверху задирает, глазами хлопает, а то и совсем их закрывает. Как глухарь на току! А я тут ему – раз! – бумагу и суну. Он – хлоп! – подпись готова.
Панкратов, Целищев, Дробышев, Горбачев смеются, а Валентин, поощренный товарищами, продолжает:
– Нам, может, и не нужно другого директора.- И ко мне: – Позвони председателю,- не надо отпускать его.- Потом принимается хвалить его жену: – Вера Георгиевна у него – чудо-женщина; красивая, обед приготовила. Хотел уйти – не отпустили, за стол зовут. А за столом я снова за свое. Теперь уже к ней, к хозяйке, обращаюсь. Мы, говорю, любим Юрия Львовича, мужик он отличный – издатель смелый, критик, знаток Есенина, а к тому же экономист толковый. Вот как дела наши развернул! А только художников к порядку призвать не желает. Знаем ведь, и полушки от них не имеет, а держит. И что ему за охота с таким жуликоватым людом знаться?
– Ну, а он? Что он-то говорит? – спрашивает Володя Дробышев, который и сам не однажды бывал на квартире директора и считал, что если бы не его проеврейский душок, работать с ним можно.
– Он-то? Сидит и слушает. И улыбается. Я, между прочим, заметил, что дома он меньше башкой трясет. Мирный какой-то. Точно поп – благостный. Или валерьянки напился, или врач Баженов сеанс с ним провел.
Сорокин замолкает, но тут же продолжает рассказ.
– Во время обеда сын их пришел – большой такой и будто бы рыжий. Кандидат медицинских наук, заведует какой-то стоматологической клиникой. С ходу стал меня поддерживать: «Ты прав, Валентин, папан до евреев охоч. И что в них находит – не знаю. Я так всех в поликлинике извел, взашей повытолкал, чтобы воду не мутили. Не люблю их – и все!»
Сорокин говорил серьезно, с каким-то внутренним радостным подъемом. Ребята не перебивали, но по выражению лиц можно было судить об их недоумении. В самом деле: как понимать Прокушева? И жена, и сын – русские, да вроде бы еще евреев не жалуют. И сам будто русский, но каждый знает, кому он служит.