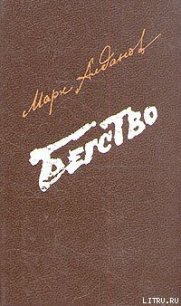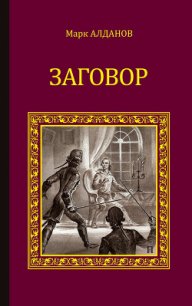Истоки - Алданов Марк Александрович (бесплатные книги полный формат txt) 📗
— Моя артистка? — повторил он с восторгом. — Моя артистка на море.
— Одна?
— С ней один артист, большой ее друг. Кажется, он ее родственник, — сказал Николай Сергеевич. Ему самому было бы трудно объяснить, почему он лжет, называя Рыжкова родственником Кати, и почему так счастлив. — Она стала полнеть, а в их деле это не полагается. Я и послал ее на море, — Он почувствовал, что «послал» прозвучало как «сплавил», что Софья Яковлевна именно так это приняла и что он уже предал Катю.
— Брат говорил мне, что вы страстно влюблены в нее?
— «Страстно»? Может быть… Уж если говорить такие слова. Но умный человек был пророк Мормон.
— Какой пророк Мормон?
— Это, кажется, пророк секты многоженцев, — сказал он. Его слова показались ей странными и неостроумными. «Все в нем неестественно, и особенно это желание всегда говорить „блестяще“. Почему он не может быть простым?.. Это глупо „купеческий сын“, но в нем действительно что-то такое есть…» Она вспомнила, что, после их новой встречи в Берлине, Юрий Павлович сказал ей, улыбаясь не совсем естественно: «Все-таки тебе, быть может, будет приятно с ним встречаться при отсутствии интересных знакомств. На безлюдье и Фома дворянин».
— Отчего же не говорить «такие слова»? Нет ничего хорошего в придирчивости к словам.
— Я знаю, что нет ничего хорошего, — сказал он и вспыхнул, точно угадав ее мысли. — Во мне и вообще нет ничего хорошего. Или, если хотите, есть одно: я умею лгать, но не люблю, терпеть не могу. Не люблю ни притворяться, ни даже просто скрывать правду. Никакого циника я не изображаю, и мне было бы вообще поздновато забавляться какой бы то ни было ролью: я не юноша. Но если вы думали, что я идеалист с горящими глазами, то вы ошиблись, — все больше раздражаясь, говорил он. — Впрочем, сомневаюсь, чтобы вам нравились идеалисты с горящими глазами. По-моему…
— Я никогда ничего такого не говорила, и не понимаю, почему вы сердитесь… Брат говорил мне, что у нее был какой-то друг или покровитель, тоже акробат? Впрочем, оставим это, извините меня.
— Ваш брат говорил вам о том, что его совершенно не касалось… Этот акробат погиб вскоре после нашего приезда в Соединенные Штаты. Он был замечательный человек, человек тройного сальто-мортале… Нет, это было бы долго объяснять, я так определяю одну породу людей. Коротко говоря, акробат был специалистом по очень трудному и опасному цирковому фокусу. В Америке он три раза проделал фокус удачно, а в четвертый раз — разбился насмерть, на ее и моих глазах.
Мамонтов замолчал, вспомнив сцену в Нью-Йорке, крик Кати, выделившийся из протяжного нараставшего крика многотысячной толпы, то, что последовало. Ему показалось, что он и теперь чувствует аптекарский запах. И навсегда в его память, вместе с этим запахом, врезалось то страшное, отвратительное чувство, которое он тогда испытал, которое потом наедине с собой старался отрицать. «Как не было? Конечно, была радость…» Софья Яковлевна с любопытством на него смотрела.
— И после этого вы заняли место акробата?
— Нет, — уже совсем грубым тоном ответил он. — Акробат этого места не занимал, он был просто ее другом. — Я был первым человеком, которого она полюбила. — Мамонтов хотел сказать, что сошелся с Катей через неделю после смерти Карло, но не сказал. «По ее понятиям, это, разумеется, цинично. И со стороны это действительно так. Катя и цинизм!»
— Вот как… Но что же это Элла? — спросила она. Ему показалось, что она краснеет. Он не сводил с нее глаз.
— Ведь вы им сказали, что не хотите шампанского. Принести вам?
— Нет, я ничего не хочу. Может быть, они прошли прямо в зал… Кстати, эти двери, кажется, затворены не будут. Отсюда все будет слышно. Хотите остаться здесь?
Его глаза показали, что об этом не надо спрашивать. Ее вдруг охватила радость. «Что это со мной? С ума сошла, старая дура!»
— Как изменились нравы! — сказала она. — Я слышала от старых людей, что еще не так давно в Париже и Лондоне, когда Малибран или Рубини или Мошелес выступали в частных домах, то они поднимались по черной лестнице, им платили, ими даже восторгались, но с ними не общались. Это переделали мы, русские. У нас этого никогда не было, даже при Николае. То же самое и с так называемыми цветными людьми. Я думаю, в Лондоне нашего милого хозяина все-таки не считают настоящим человеком… Да вот пример. Можете ли вы себе представить, что в какой-либо западной стране король приблизил к себе негра, что сын этого негра породнился со знатью страны, а его правнук оказался ее величайшим человеком. А ведь это подлинная история Пушкина, — говорила она, меньше всего на свете интересуясь сейчас историей Пушкина или цветными людьми. Но ей казалось, что надо говорить, что надо говорить без умолку, что нельзя остановиться ни на минуту.
— Послушайте, — сказал он, наклонившись вперед в кресле и глядя на нее блестящими глазами. — У нас сегодня вышел с вами странный разговор… Вам не приходило в голову, что надо жить одним днем, нынешним днем? Быть может, я чуть пьян, только не знаю, от вина ли… Одним словом, простите, если я что не так говорю. Вот я старался говорить умно, и, кажется, вышло глупо. А теперь я хочу говорить глупо, может выйдет умнее? Вам не приходило в голову, что можно жить так, просто ни над чем не задумываясь: так, чтобы быть счастливым сегодня, а дальше будь что будет!.. Одним словом, без Мунго-Парков! И вдруг будет хорошо, будет чудно? — сказал он. Язык у него заплетался. В концертном зале раздались рукоплесканья. Еще несколько ландскнехтов на цыпочках пробежали через гостиную. — Патти! — с бешенством сказал он.
— Я думала, она пройдет через эту комнату. Как жаль! Я люблю смотреть, как она ходит. Это целое искусство. Точно плывет богиня! Жаль, что отсюда ее не видно, но мы потом подойдем к ней. Верно она в этом ожерелье Марии-Антуанетты? Ей нью-йоркские дамы поднесли ожерелье, принадлежавшее Марии-Антуанетте. Впрочем, у нью-йоркских ювелиров, верно, все ожерелья принадлежали Марии-Антуанетте, если они не принадлежали Марии Стюарт, — говорила она безостановочно, все больше смущаясь от его взгляда и от чувств «старой дуры». Рукоплесканья в концертной зале все росли, стали слабеть и оборвались. Как всегда, кто-то еще отдельно раза два хлопнул, послышалось негодующее «ш-ш-ш!» и рояль заиграл «Серенаду» Шуберта.
— «Lei-se fle-hen mei-ne Lie-der durch die Nacht zu dir» [120], — раздалась первая фраза, Патти выговаривала каждое слово особенно отчетливо, как говорят на малознакомом языке. Николай Сергеевич вначале не слушал. «Да, если она пожелает, я обману Катю! Знаю, что это будет особенно гадко: ведь Катю так легко обманывать, знаю, но обману!.. Ах, как пошло я говорил, особенно вначале! — Он с ужасом вспомнил о „Мормоне“. — Но, может, и она немного ошалела от своего костюма, от Семирамиды, от всего этого дома умалишенных… И разве я не вижу, что она в меня не влюблена… Ну и что же? Пусть „голос благоразумия“ и несет свой вздор!» Он не сознавал, что уже с полминуты слышит музыку. «Теперь все кончено, все!..»
IV
Музыка доносилась через отворенные окна в каморку верхнего этажа, в которой лежал больной старик, сопровождавший принца в его путешествиях. Европейцы, путавшиеся в восточных вероучениях, называли его то «великим факиром», то «йогом», то как-то еще. Он считался духовным наставником принца. Семидесятилетний, худой как щепка факир почти никогда не выходил из дому, питался овощами, спал на голых досках. В тех редких случаях, когда они останавливались в гостиницах, он не впускал к себе в комнату никого из прислуги. В Париже лакеи смотрели на него испуганно и слова «maboul», «pique», «marteau» [121] произносили с теми смешанными чувствами страха, любопытства и насмешки, какие у здоровых людей вызывают сумасшедшие, а у сумасшедших — здоровые. Спал он часа четыре в сутки, а в остальное время размышлял о смысле жизни и о близящейся смерти. Он работал над книгой, не бывшей, собственно, его сочинением: великий факир не отделял своих мыслей от трудов учителей и законодателей: важно было не новое, а мудрое, Задачей своей он ставил определение чистого в мире греха и зла. Ему удалось кое-что от себя добавить. Чисты были трудящийся во время работы, самка, кормящая детеныша, собака, защищающая хозяина.
120
«Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной» (нем.)
121
«Чудак», «тронутый», «свихнувшийся» (франц.)