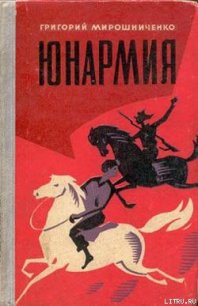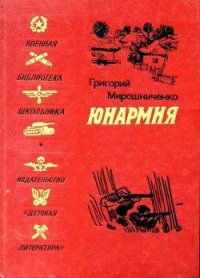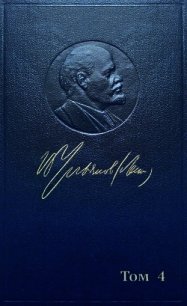Осада Азова - Мирошниченко Григорий Ильич (список книг TXT) 📗
Неустрашимость казаков, их ночные вылазки заронили страх и тревожное ожидание в коварную душу Эвлии Челеби. Он спал только днем на корабле, страшась темных ночей, наполненных неумолчным шумом моря и ночными пугающими видениями.
Вот и сейчас глухой шум, донесшийся с корабля, заставил его насторожиться. Эвлия Челеби подошел к двери, нажал на ручку. Дверь не подалась. Его охватила слабость, пересохло во рту, а сознание отчаянно сверлила одна мысль:
«Бежать! Бежать спешно! Спастись!..»
Он задул свечку, проверил на себе оружие, широкий пояс с зашитыми в нем ценностями, накинул на плечо сумку с записками; снова подошел к двери. Послышался шум, кто-то быстро бежал. Ближе, ближе – и вот уже у его каюты. Вдруг что-то гулко грохнуло, бежавший тоже упал, глухо произнося проклятия.
Эвлия Челеби стоял ни жив ни мертв. Сердце гулко стучало, ноги дрожали, руки сводила судорога. Шаги замолкли вдали. Он снова нажал на дверь, она открылась. Неслышно вышел, как ящерица проскользнул на корму корабля, нащупал канатную лесенку и спрыгнул в челнок. Челнок бесшумно скользнул в темень моря.
Казаки тем временем быстро разбежались по самым дальним уголкам корабля, разбрасывая всюду мешочки с порохом и длинными фитилями. Самый длинный фитиль спускался по крутым лестницам в пороховой трюм.
– Живо, братцы, живо! – поторапливал казаков Иван Подкова. Казаки быстро спустили в сандалы, струги и челноки невольников, спрыгнули сами и, широко размахивая веслами, поплыли в темноту.
Иван Подкова остался один. Терпеливо высек огонь, раздул трут, поджег все фитили. Посмотрел на скользящие огоньки, быстро спрыгнул в маячивший челнок и быстрыми взмахами бросился догонять казаков.
Веселые огоньки, вспыхивая, бежали к зарядам. И вот уже маленькие пороховые мешочки стали взрываться на палубе, в трюмах, в тесных каютах, под длинными мачтами…
Вода бурными потоками хлынула в бреши. А потом раздался еще один, самый сильный взрыв, и карамаон, озаренный высоким столбом огня, стал медленно погружаться в воду.
Казаки уже были далеко. Иван Подкова догнал их и неторопливо сказал:
– Дело наше почти сделано! Слава богу!
В это время поодаль раздались один за другим еще несколько взрывов. Это взлетели на воздух три турецких
сандала, груженные порохом, три сарбуны, набитые огненными ядрами, четыре неповоротливых тумбаза со стрелами и запасными ружьями.
– Слава! – сказал Осип Петров. – Слава в веках нашим погибшим товарищам!
Казаки размашисто перекрестились. Они знали, что никогда больше их храбрые друзья не увидят света, не перемолвятся с ними словом. При взрывах кораблей погибли: Иван Небогатый, Серега Притуляйхата, Кондрат Звоников, Петро Серебряный, Васька Шкворень, Севастьян Разлука, Митька Маленький.
– Помяни их души добрые, великий русский народ, – молитвенно шептал атаман Петров, поглядывая на горящие и тонущие вражеские корабли. – Это тебе, Гуссейн-паша, второй наш азовский подарок!
Турецкие корабли, на которые не успели еще налететь храбрые казаки, поспешно уходили в море.
Томила Бобырев показал в этом бою такую удаль, какой могли позавидовать многие казаки. Он рубил топором днища кораблей, поджигал фитили, сбивал огромным багром налетавших на него турок, – все успевал. Раскраснелся, разыгрался Томила. Завидя богатыря русского, турецкие матросы сами бросались в море.
Левка Карпов тоже отличился. На его долю досталось три карамурсаля. Нелегко было с ними справиться. На последнем он уже задыхался от густого, едкого дыма. Лицо и волосы его обгорели, руки тоже. Он едва держался на ногах, но шел в самые опасные места.
Немало храбрости и удальства показали в ту ночь Бей-булат и Джем-булат. Они действовали своими острыми кинжалами, покрикивая по-своему:
– Абреки! Абреки! Куда бежите? Чего кричите? Бейтесь, трусливые! Бейтесь в открытом бою! А-а-а-а, трусы! Смело биться – не наших людей воровать да в Стамбул продавать!..
Донские и запорожские казаки вернулись к родным берегам со славой, с богатой добычей и большим полоном, со многими освобожденными русскими людьми.
Счастливый Бей-булат вез в Азов свою невесту – Гюль-Илыджу.
Но из тысячи храбрецов сто шестьдесят четыре донских героя отдали свои жизни морю.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Гуссейн-паша был в страшном гневе. Он сорвал с головы парчовую чалму с дорогими самоцветами, яростно топтал ее ногами, закатив под лоб глаза, в исступлении метался по шатру, выкрикивая в неистовстве страшную брань и проклятия. Он задыхался от ярости и страха, предвидя большие неприятности для себя.
Что скажут в Стамбуле? Известно что! Не свалить ли всю вину на строптивого адмирала? Но ведь Пиали-паша предупреждал его об опасности, которая грозила бездействующему флоту со стороны Азова.
Что делать? Что будет? Неужели и впрямь слетит с плеч его голова и будет насажена на ржавый гвоздь у ворот султанского дворца? Нет, этому не бывать! Гуссейн-паша найдет лазейку, он свалит все неудачи азовского похода на кого-нибудь, лишь бы спасти себя от гнева султана.
Накануне Пиали-паша, глубоко озабоченный, молча вошел в шатер главнокомандующего, молча положил на его походный стол бумагу, которую спешно доставили с военного корабля, молча и не спеша вышел. Бумага лежала перед Гуссейном. Он читал ее, читал и содрогался.
«…Иные мореплаватели, – писал капитан одного из турецких кораблей, – называют ураганом или тайфуном всякий необыкновенно жестокий ветер. Но сии наименования имеют между собою большую разницу. Ураган означает весьма крепкий ветер, который, дуя с большой свирепостью, беспрестанно меняется так, что в короткое время обходит весь горизонт; он причиняет, следовательно, весьма опасное толкучее волнение морю и воздуху. Тайфун же дует некоторое время весьма крепко с одной стороны, потом вдруг затихает и через несколько минут начинает дуть от противоположного румба с прежней жестокостью. Но есть еще один ветер, называемый драконом; мореплаватели дают сие название ветрам, от разных румбов дующим; оные в Черном море случаются весьма редко.
Но все то, что довелось нам испытать, не сравнимо ни с ураганом, ни с тайфуном, ни с драконом. Мы перенесли нечто страшное и что можно назвать только танцем смерти в горящем аду!
…В среду ночью из трюма повалил дым. Мы ударили тревогу из пушек, привели в действие пожарные трубы и ведра. Дым выходил из кубрика против форлюка, а потому действие заливных труб мы направили в то место. И хотя огонь еще не показывался, но дымом заполнило весь кубрик, так что людям, гасившим пожар, не было никакой возможности там оставаться.
…Потом начался пожар в другом трюме. Мы никак не могли понять, отчего он произошел, но, подумав, догадались, что в бурю наш корабль посетили неизвестные нам люди, скорее всего казаки, и подожгли его.
Я приказал плотно задраить все люки на нижней палубе, заколотить сделанные в ней отверстия и употребить все средства, чтоб затушить огонь спертым воздухом. Гребные суда спустили на воду; матросов расставили по бортам с заряженными ружьями, чтоб, кроме караульных, на гребных судах ни одного человека не было. Мы ждали взрыва и, чтобы избежать его, решили замочить весь порох в крюйт-камере, для чего и начали лить туда воду. Но около полуночи все до единого человека принуждены были оставить сию работу, ибо многие почти совсем задохлись и были вынесены наверх замертво: все они, однако ж, пришли в чувство, кроме одного баталера, который при сем случае лишился жизни.
…В половине второго ночи мы были приведены в ужасный страх и полное смятение: вдруг сбросило крышки с люков верхнего дека, и тогда из них повалил густой дым, за коим в один миг последовало пламя, поднявшееся во всю длину мачты. Мы ожидали мгновенной гибели, и в замешательстве, при сем случае последовавшем, два матроса утонули, покушаясь вскочить в гребное судно. Мы утопили опознавательные сигналы, сигнальные книги и всякие другие тайные бумаги, бросили за борт все койки и флаги, кроме двух поднятых, означавших сигнал бедствия. Люди продолжали работу, чтоб обезопасить крюйт-камеру, но их все время выносили оттуда упавшими замертво. Больше других претерпел артиллерийский офицер Курбан-Али-хан. Его пять раз выносили без всяких признаков жизни. Шестой раз его вынесли окровавленного, обгоревшего и мертвого.