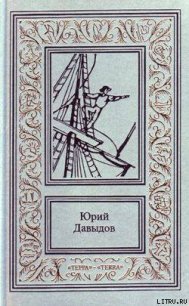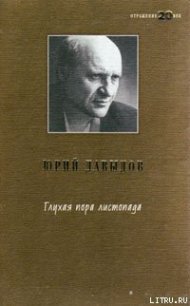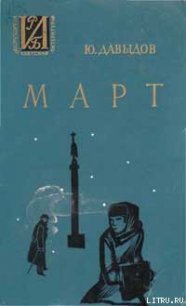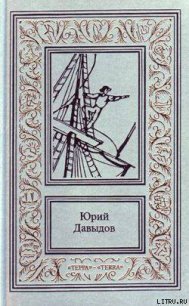Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн полные txt) 📗
А вот сам же и заговорил.
Он выдал Винникову предписание о ревизии Вилюйского окружного полицейского управления. Сказал: «Ревизию проведете краткую, взгляните, и только». И тут же вручил другую бумагу. Сказал: «Григорий Васильич, об этой никто знать не должен. Ни якутский губернатор, ни вилюйский исправник. Это поручение главное. Я прошу и надеюсь, что оно будет исполнено осторожно и деликатно. Вы обязаны доставить мне ответ, тот либо иной, но доставить».
Теперь Синельников дожидался его возвращения из Вилюйска. Дожидался спокойно. Дело казалось верным. А потом он добьет упрямого арестанта. Ишь ведь каков! «Золотая клетка», «убийцы мысли», о себе ж ни гугу, будто и не расслышал приглашения к службе. И не у какого-то там коллежского асессора Бутыркина, нет, у генерал-губернатора Восточной Сибири.
Наконец Винников приехал.
Генерал посмотрел на Винникова, тот отвел глаза. Синельников выкрикнул:
– Что?!
– Нет, – тихо ответил адъютант, протягивая бумагу.
Синельников увидел: «От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский».
Генерал круто отошел к окну. Остужая лоб оконным стеклом, заложив руки за спину, приказал:
– Садись. Рассказывай.
Винников не сел. Рассказывал стоя.
– Исполняя ваше приказание, я явился к господину Чернышевскому без сопровождения, один, под видом опроса претензий. Он был в рваном халате, на бледном лице его не выразилось ко мне никакого интереса. Я представился и сказал: «Николай Гаврилович, я прислан с специальным поручением господина генерал-губернатора. Не угодно ли прочесть и дать мне ответ в ту или другую сторону». Он молча взял. Прочел и вернул. Потом поблагодарил за труды. И сказал: «В чем же я должен просить помилования? Это вопрос… Мне кажется, я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер. А об этом-то разве можно просить помилования?» Признаюсь, ваше высокопревосходительство, я потерялся. Минуты три – болван болваном. «Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?» Он смотрел просто, спокойно: «Положительно отказываюсь». Позвольте, говорю, просить вас дать мне доказательство, что я вам предъявил… «Расписаться в прочтении? – спрашивает. – Пожалуйста, с готовностью».
Генерал был в ярости. Семинарист, замешенный на пугачевщине, обманул его. Кругом обманул! Ишь мученик! Гордость какова! Э-э, «гордость», «гордость» – наглость – вот что! наглость. Голова, видите ли, не так устроена! Сжимая кулаки, Синельников бранился площадной бранью.
Отгремев, сел в кресло. Достал флакончик с ароматической солью. Приложился одной ноздрей, другой. Благовоние утишило гнев. В конце концов была бы честь предложена. Николай Петрович перечел: «От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский». И подумал: «На какого Николу-то – на зимнего или на вешнего?» Вопрос был пустой, пустота наполнилась мрачной горечью: вспомнились именины, речь этого борова Шелашникова, ощутилась пощечина. И Синельников, как тогда, в театре, замотал головой.
Несколько дней Николай Петрович глядел тучей.
Медленно вызревало в душе одно намерение. Он не хотел признаться, что оно, это намерение, следствие обиды, стыда, оскорбленного самолюбия. И совсем уж не хотелось признать, что есть в его намерении и глухо бередящее чувство вины перед треклятым Эйхмиллером. Еще чего! Он, генерал-губернатор, поступил как должно, и баста. А чувство не унималось, бередило глухо.
В намерении Николая Петровича было желание добра. Желание почти болезненное: ах, вы со мною так, ну а я с вами эдак. В другое бы время генерал прикинул расчетливо: поспешай медленно. Но сейчас ему все надо было заглушить словно бы пушечным выстрелом.
В пятом часу утра со свежей головой и в твердой памяти генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-адъютант свиты его величества Николай Петрович Синельников сел писать ходатайство в Петербург, в Зимний, на высочайшее имя – о Чернышевском: перевести из Внлюйска в Якутск; о Лопатине – назначить жительство в Иркутске, отменить полицейский надзор и определить в службу. И, сняв очки, легонько надавливая пальцами глазные яблоки, подумал, как давеча, но уже легко и покойно: «Ах, вы так со мной, ну а я с вами эдак». И опять, как в именинный вечер, осенился тихой, печальной отрадой: недолго уж крест нести, потрудился, совесть чиста.
Месяц спустя Петербург ответил сокрушительно на его ходатайства: о Чернышевском – молчанием, столь же красноречивым, сколь и грозным; о Лопатине так: государь император не соизволил прекратить дело Лопатина, предосудительный образ действий которого памятен его величеству.
Странно, Синельников не растерялся, не обиделся, не посетовал на свой «пушечный выстрел», не прогневался на визирей, подсунувших государю неодобрительные отзывы на ходатайства, – тяжелая, безысходная апатия овладела Николаем Петровичем.
А город уже украшали. Из плошек, наполненных маслом, составляли вензеля: «Н.П.С.» – Николай Петрович Синельников, из плошек обозначали даты его пятидесятилетнего служения престолу и отечеству: «1823–1873». Вечером, в понедельник, плошки зажглись и горели, горели в безветрии, под чистым небом и ясными звездами.
Утром поступили телеграммы от государя и от министра внутренних дел. (Ни высочайшего рескрипта, ни производства в полные генералы не последовало.) Ровно в девять начались юбилейные торжества.
Генерал-губернатор, он же командующий войсками Восточной Сибири, принял поздравления военных и гражданских ведомств. В кафедральном соборе протодиакон возгласил многая лета. После литургии и молебствия генерал принимал войсковой парад, в полдень – поздравления духовенства, учебных и благотворительных заведений, воспитанники которых, умытые, припомаженные и испуганные, стройно пели «Боже, царя храни». В два пополудни на плацу был задан обед нижним чинам, оплаченный золотопромышленником Гинцбургом; Синельников сидел во главе солдатского стола. Вечером в городском общественном саду гуляло не только «общество», но и простой народ. Выставлено было угощение, на которое раскошелилась уже не контора Гинцбурга, а мошна Базанова Ивана Иваныча.
Шестидесятивосьмилетний юбиляр сильно устал, хотел было уклониться от вечернего гуляния, но за ним приехали, к нему приступили, уверяя, что «публика умоляет», и Синельникову это было лестно и приятно, хотя он прекрасно знал, что и без него обойдутся.
В саду – «ура», «слава», хлопанье пробок, музыка, движенье, огни. Николай Петрович оживился, радуясь, что не остался дома, приехал и вот дышит майской прохладой, пахнет черемухой, и музыка, и женский смех, шпоры, чьи-то возбужденные голоса, к нему подходят, поздравляют, ему кажется, что все его любят, и он отдается этой иллюзии, сознавая ее иллюзорность; им овладевает старинная любезность, и он как бы подыгрывает сам себе, играя в галантность.
Он увидел Чайковских, Татьяну Флорентьевну, ее сына и младшую дочь. Николай Петрович поцеловал руку Татьяны Флорентьевны, легонько тронул Ниночку за мочку уха.
Приняв генерал-губернаторство, Синельников не застал в живых отца семейства, а сына быстро узнал и оценил как дельного и честного исправника. Но поначалу он как бы чуть сторонился Чайковских: они были из «партии» его предшественников Муравьева и Корсакова, однако постепенно, или, как здесь говорили (и ему это нравилось), помаленьку, присмотрелся к ним и нашел, что все они очень симпатичны.
Он выслушал Татьяну Флорентьевну, положив руку на плечо Ниночки, сказал: «Вот как? Невеста Лопатина? Поздравляю и сочувствую. Да, тяжелые обстоятельства. Но не надо терять надежды. Д-да, свидания разрешаются, не замедлю распорядиться. Не стоит благодарности», – и поцеловал Ниночку в лоб.
Откланявшись, они исчезли в толпе гуляющих, в огнях и тенях, Николай Петрович почувствовал одиночество, усталость и постарался незаметно уехать.
Близ дворца генерал отпустил коляску, кивком дал понять адъютанту, что тот свободен, и пошел к реке.
Громадный темный поток нес широкий мерный шум, и казалось, не река, а этот шум обдавал холодом Николая Петровича. Ни о чем определенном не думая, он смотрел на громадную темную реку, сознавая, что нынешним юбилеем все для него завершилось, закончилось, ничего уж больше нет и не будет.