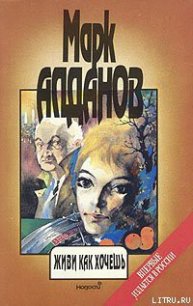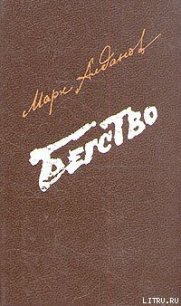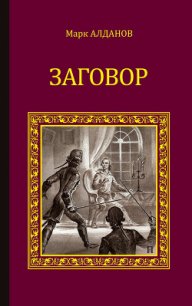Ключ - Алданов Марк Александрович (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью .TXT) 📗
— Милая, — умоляющим тоном сказала Наталья Михайловна, — я ему велю позвонить вам. Скажите вы ему, ради Бога! Пусть ему Муся скажет, она имеет на него влияние… Спасибо, родная. Ну, прощайте… Господи!..
Витя опять вернулся вполне благополучно и даже победителем. Вид у него был измученный и потрясенный, хотя торжествующий. На этот раз он принимал участие в огромном уличном митинге на Невском проспекте, у здания Городской думы. На митинге этом произносились такие речи, от которых в передаче Вити у Натальи Михайловны остановилось сердце. Появилась полиция. В толпе запели одновременно «Марсельезу» и «Вихри враждебные». Произошло столкновение. Откуда-то раздался выстрел, и тотчас затрещали пулеметы. Все бросились врассыпную. На глазах у Вити свалились несколько человек. Витя весь дрожал, рассказывая, хотя старался спокойно улыбаться. Он подумывал о том, чтобы обзавестись оружием; у него даже был на примете револьвер, «правда, не браунинг и не парабеллум, а „смит-вессон“, но хороший и большого калибра». Наталья Михайловна с ужасом слушала сына. Теперь ей все было безразлично, лишь бы кончились такие дела и вернулась спокойная жизнь. Она сказала Вите, что Муся Кременецкая звонила по телефону и просила ее вызвать. Витя немедленно это сделал. Муся подошла к аппарату, выслушала его рассказ и прочла ему наставление.
— Да, да, если вы хоть немного обо мне думаете, — сказала она и тотчас поправилась, — о нас всех, о ваших родителях… Вы уже исполнили свой долг, и довольно. Сделайте это для меня, Витя, если вы не думаете о себе.
Необыкновенно тронутый и взволнованный ее словами, Витя обещал больше не выходить из дому, пока все немного не успокоится. «Нет, ничего с Клервиллем не было!» Он сдержал слово. На улицах пальба грохотала день и ночь. В соседнем доме разгромили квартиру какого-то генерала. Об этом с тем же торжествующим, даже несколько вызывающим видом рассказывала господам Маруся. Однако в доме Яценко стало спокойнее. Николай Петрович обедал с семьей. Обед был источником веселья. Подавали то, что можно было найти в кладовой да еще в соседней лавке, открывавшейся иногда часа на два: шпроты, «альбертики», ветчину, варенье.
Затем стрельба ослабела. Стали приходить приятели, знакомые; среди них были и такие, фамилий которых не помнили хозяева. Зашел нотариус, живший в первом этаже дома, никогда до того у них не бывавший. При встрече люди поздравляли друг друга и обнимались, точно это был какой-то вновь установленный обряд. Сначала это показалось Яценко странным и неестественным; потом он привык, первый обнимал друзей и чуть не обнялся с нотариусом. Николай Петрович был совершенно здоров и собирался выйти, но не знал, куда отправиться: о службе не могло быть речи, идти «в гости» не хотелось.
Вечером Яценко сказали по телефону, что горит здание суда. Это столь неожиданное известие потрясло следователя. Он немедленно надел шубу и вышел на улицу, несмотря на протесты и просьбы Натальи Михайловны.
XVIII
Стрельба затихла. На улицах было оживление необыкновенное. Толпы народа валили с Невского по Литейному, по Надеждинской, по Знаменской. Шли и по мостовой, хотя было достаточно места на тротуарах ярко освещенных улиц. Яценко вглядывался в проходивших людей и не узнавал петербургской толпы. Одни шли, как на сцене статисты во время победного марша, другие — так, точно неслись куда-то на крыльях. Восторженное волнение выражалось на всех лицах. У многих было даже молитвенное выражение, которое показалось Николаю Петровичу неестественным.
Вид этой толпы немного изменил его настроение. События по-прежнему переполняли его душу радостью, но уже меньше, чем дома. Он еще неясно сознавал эту перемену и несколько ее стыдился. «Нельзя быть впечатлительным, как нервная дама! — сказал себе Яценко. — Все радуются освобождению страны и совершенно правы. Сбылась мечта декабристов, мечта десятка поколений… И все-таки что-то не то… Вот и после взятия Перемышля такая же была радость на улицах — искренняя и не совсем искренняя. Собственно, настоящий восторг может быть только от событий личных», — нерешительно подумал он. Загораживая дорогу Николаю Петровичу, два человека заключили друг друга в объятия. Он раздраженно на них взглянул, пытаясь короткими шажками обойти их то справа, то слева.
— …Да, как же, у казарм войска братаются с народом! — восторженно сказал господин в котиковой шапке. — Я сам видел!..
— Господи, неужели это окончательно? Довелось же дожить!.. Из тюрем выпустили узников, которые там томились…
«Как, однако, неестественно стали говорить люди, — подумал Яценко, проходя. — Разумеется, прекрасно, что войска отказываются стрелять в народ, но „братаются“!.. Как это делают? Что такое „братаются“?» Он едва ли не впервые услышал тогда это слово.
Казачий отряд проехал легкой рысью, разрезая проход на улице. Отшатнувшаяся к тротуарам толпа смотрела на казаков с тревожным чувством, как бы еще не выяснив своего отношения к этому явлению. У казаков вид был тоже странный, чуть растерянный и вместе молодцеватый более обычного, словно и они еще не решили, что нужно делать: не то брататься с толпою, не то взяться за нагайки. Николаю Петровичу показалось, что и то, и другое одинаково возможно. Казаки свернули в боковую улицу и скрылись. Все вздохнули свободнее. «По Литейному, пожалуй, не пройти, — сказал себе Яценко, — надо выйти на Шпалерную… Не может быть, однако, чтобы сгорел суд…» Он думал о своей камере, о делах, о документах. Вдруг впереди раздались рукоплескания. В одно мгновение они распространились по улице и смешались с криками «ур-ра!..». Справа медленно выезжал грузовик с фонарями и красным флагом. На нем сидели и стояли солдаты с ружьями в самых странных позах: свесив ноги, как с телеги, на коленях, на корточках, во весь рост. Высокий солдат стоял на грузовике, приложив ружье к плечу, несколько прищурив глаз. Рядом с Николаем Петровичем молодые люди с яростью аплодировали изо всей силы и что-то ревели. Яценко вдруг хлопнул раза два в ладоши — на нем были толстые ватные перчатки, аплодировать было невозможно, но и этого случайного поступка он потом долго себе не прощал. Грузовик проехал к Невскому, мимо Николая Петровича прошло дуло ружья, он невольно уклонился с неприятным чувством. Ему навсегда запомнился у фонаря этот высокий скуластый и прыщеватый солдат с фуражкой набекрень, с пулеметной лентой через плечо; лицо у него было тупое, испуганное и злобное. «Нет, не то, не то…» — тоскливо подумал Яценко.
По Шпалерной пройти было легче. Николаю Петровичу попадались в толпе знакомые лица. Он шел довольно быстро. Волнение его все усиливалось по мере приближения к суду. Впереди снова послышались крики «ура!». Приближался странный шатающийся огонь. Николай Петрович увидел молодых рабочих, бежавших по мостовой с факелом. У факела, подняв левую руку и оглядываясь по сторонам, неестественно большими шагами шагал человек в тулупе, в правой руке он держал обнаженную саблю. За ним толпа несла на плечах, с трудом поспевая за факельщиками, странно одетых людей, которые кричали и махали шапками, то неловко поднимаясь, точно в стременах, то хватаясь за плечи и шеи несущих. Процессия поравнялась с фонарем. Яценко остановился, лицо его дернулось — среди людей, которых несли на руках, он узнал Загряцкого.
Суд, по-видимому, был подожжен давно. Здание горело изнутри. К небу валил густой рыжеватый дым. Мостовая была засыпана грудами бумаг, осколками стекол. На противоположном тротуаре Литейного стояла толпа. Но никто и не пытался тушить пожар. Здесь было тише, чем на прилегавших улицах. Одно из окон здания ровно светилось бледным светом. Там еще горела уцелевшая лампа, этот ровный свет не могли забыть люди, видевшие пожар суда. На углу Захарьевской Николай Петрович увидел знакомых адвокатов, они озабоченно суетились около больших портретов, прислоненных к стене дома. Яценко, чувствуя слабость и дрожь в ногах, пробрался к углу и поздоровался со знакомыми. Здесь были Кременецкий, Фомин. Семен Исидорович молча, крепко и взволнованно сжал руку следователя. В нескольких шагах от них у фонаря неподвижно стоял Александр Браун. В глазах Николая Петровича скользнул испуг. Браун смотрел на пожар холодным, почти безжизненным взглядом.