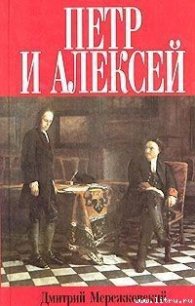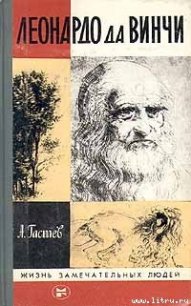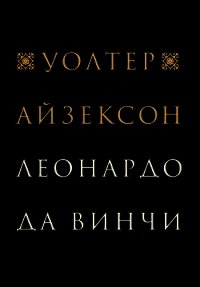Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги без регистрации полные версии txt) 📗
Товарищ медленно обернул к нему лицо свое, бледное, искаженное.
– А ты что думал? Люблю! Мне ли не любить его? Хочу ненавидеть, а должен любить, ибо того, что он сделал в Тайной Вечере, никто, быть может, и он сам, не понимает, как я, – я, злейший враг его!..
И опять засмеялся он своим насильственным смехом:
– А ведь вот подумаешь, не странно ли сердце человеческое создано? Если уж на то пошло, я, пожалуй, скажу тебе правду, Джованни: я все-таки не люблю его, еще более не люблю его, чем тогда!..
– За что?
– А хотя бы за то, что я желаю быть самим собою, – слышишь? – последним из последних, но все же не ухом, не глазом, не пальцем от ноги его! Ученики Леонардо – цыплята в орлином гнезде! Правила науки, ложечки для измерения красок, таблички для носов – пусть этим утешается Марко! Посмотрел бы я, как сам Леонардо со всеми своими правилами создал бы лик Господень! О, конечно, он учит нас, цыплят своих, летать по-орлиному – от доброго сердца, ибо жалеет нас, так же, как слепых щенят дворовой суки, и хромую клячу, и преступника, которого провожает на смертную казнь, чтобы наблюдать за содроганиями мускулов в лице его, и стрекозу осеннюю с крылышками окоченелыми. Избыток благости своей, как солнце, на все изливает... Только, видишь ли, друг, у каждого свой вкус: одному приятно быть замерзшей стрекозкой или червяком, которого учитель, подобно св. Франциску, с дороги подняв, на зеленый лист кладет, чтобы прохожие ногой не раздавили. Ну а другому... знаешь, Джованни, лучше бы уж он меня попросту, не мудрствуя, раздавил!..
– Чезаре, – произнес Джованни, – если это так, зачем же ты не уходишь от него?..
– А ты зачем не уходишь? Крылья опалил, как мотылек на свече, а вьешься – лезешь в огонь. Ну так вот, может быть, и я в том же огне хочу сгореть. А впрочем, кто знает? Есть у меня и надежда...
– Какая?
– О, самая пустая, пожалуй, безумная! А все-таки нет-нет да и подумаешь: что, если придет другой, на него непохожий и равный ему, не Перуджино, не Боргоньоне, не Боттичелли, не даже великий Мантенья, – я знаю цену учителю: никто из них ему не страшен, – но еще неведомый? Мне бы только взглянуть на славу другого, только бы напомнить мессеру Леонардо, что и такие насекомые, из милости не раздавленные, как я, могут ему предпочесть другого и уязвить, ибо, несмотря на овечью шкуру, несмотря на жалость и всепрощение, гордыня-то в нем все-таки дьявольская!..
Чезаре не кончил, оборвал, и Джованни почувствовал, что он схватил его за руку дрожащею рукою.
– Я знаю, – произнес Чезаре уже другим, почти робким и молящим, голосом, – я знаю, никогда бы тебе самому это в голову не пришло. Кто сказал тебе, что я люблю его?..
– Он сам, – ответил Бельтраффио.
– Сам? Вот что! – произнес Чезаре в невыразимом смущении. – Так, значит, он думает...
Голос его пресекся.
Они посмотрели друг другу в глаза и вдруг оба поняли, что им более не о чем говорить, что каждый слишком погружен в свои собственные мысли и муки.
Молча, не простившись, расстались они на ближайшем перекрестке.
Джованни продолжал свой путь неверным шагом, опустив голову, ничего не видя, не помня, куда идет, глухими пустырями, между голых лиственниц, по берегу прямого, длинного канала, с тихою, тяжкою, чугунно-черною водою, где ни одна звезда не отражалась, – повторяя с безумным остановившимся взором:
– Двойники... двойники...
В начале марта 1499 года Леонардо неожиданно получил из герцогского казначейства задержанное за два года жалованье.
В это время ходили слухи, будто бы Моро, пораженный известием о заключении против него тройственного союза Венеции, папы и короля, намеревался, при первом появлении французского войска в Ломбардии, бежать в Германию к императору. Желая упрочить за собой верность подданных во время своего отсутствия, герцог облегчал налоги и подати, расплачивался с должниками, осыпал приближенных подарками.
Немного времени спустя удостоился Леонардо нового знака герцогской милости:
«Лудовик Марна Сфортиа, герцог Медиолана, Леонардуса Квинтия флорентинца, художника знаменитейшего, шестнадцатью пертик земли с виноградником, приобретенным у монастыря Св. Виктора, именуемым Подгородным, что у Верчельских ворот, жалует», – сказано было в дарственной записи.
Художник пошел благодарить герцога. Свидание назначено было вечером. Но ждать пришлось до поздней ночи, так как Моро завален был делами. Весь день провел он в скучных разговорах с казначеями и секретарями, в проверке счетов за военные припасы, ядра, пушки, порох, в распутывании старых, в изобретении новых узлов той бесконечной сети обманов и предательств, которые нравились ему, когда он был в ней хозяином, как паук в паутине, и в которой теперь он чувствовал себя как пойманная муха.
Окончив дела, пошел в галерею Браманте, над одним из рвов Миланского замка.
Ночь была тихая. Порой лишь слышались звуки трубы, протяжный оклик часовых, железный скрежет ржавой цепи подъемного моста.
Паж Ричардетто принес два факела, вставил их в чугунные подсвечники, вбитые в стену, и подал герцогу золотое блюдце с мелко нарезанным хлебом. Из-за угла, во рву, по черному зеркалу вод, привлекаемые светом факелов, выплыли белые лебеди. Облокотившись на перила, он бросал кусочки хлеба в воду и любовался, как они ловили их, беззвучно рассекая грудью водное стекло.
Маркиза Изабелла д’Эсте, сестра покойной Беатриче, прислала в подарок этих лебедей из Мантуи, с тихих плоскобережных заводей Минчо, обильных камышами и плакучими ивами, – давнишнего приюта лебединых стай.
Моро всегда любил их: но в последнее время еще больше пристрастился к ним и каждый вечер кормил их из собственных рук, что было для него единственным отдыхом от мучительных дум о делах, о войне, о политике, о своих и чужих предательствах. Лебеди напоминали ему детство, когда он так же кормил их, бывало, на сонных, поросших зеленой ряской прудах Виджевано.
Но здесь, во рву Миланского замка, меж грозными бойницами, башнями, пороховыми складами, пирамидами ядер и жерлами пушек – тихие, чистые, белые, в голубовато-серебряном лунном тумане – казались они еще прекраснее. Гладь воды, отразившая небо, под ними была почти невидимой, и, качаясь, скользили они, как видения, со всех сторон окруженные звездами, полные тайны, между двумя небесами – небом вверху и небом внизу, – одинаково чуждые и близкие обоим.
За спиною герцога маленькая дверца скрипнула, и высунулась голова камерьере Пустерло. Почтительно согнувшись, подошел он к Моро и подал бумагу.
– Что это? – спросил герцог.
– От главного казначея, мессера Боргонцо Ботто, счет за военные припасы, порох и ядра. Очень извиняются, что принуждены беспокоить. Но обоз в Мортару выезжает на рассвете...
Моро схватил бумагу, скомкал и швырнул ее прочь:
– Сколько раз говорил я тебе, чтобы ни с какими делами не лезть ко мне после ужина! О Господи, кажется, скоро и ночью в постели не дадут покоя!..
Камерьере, не разгибая спины, пятясь к двери задом, произнес шепотом так, чтобы герцог мог не расслышать, если не захочет:
– Мессер Леонардо.
– Ах да, Леонардо. Зачем ты давно не напомнил? Проси.
И, снова обернувшись к лебедям, подумал:
«Леонардо не помешает».
На желтом, обрюзгшем лице Моро с тонкими, хитрыми и хищными губами выступила добрая улыбка.
Когда в галерею вошел художник, герцог, продолжая кидать кусочки хлеба, перевел на него ту самую улыбку, с которой смотрел на лебедей.
Леонардо хотел преклонить колено, но герцог удержал его и поцеловал в голову.
– Здравствуй. Давно мы с тобой не видались. Как поживаешь, друг?
– Я должен благодарить вашу светлость...
– Э, полно! Таких ли даров ты достоин? Вот ужо дай срок, я сумею наградить тебя по заслугам.
Вступив в беседу с художником, он расспрашивал его о последних работах, изобретениях и замыслах, нарочно таких, которые казались герцогу самыми невозможными, сказочными, – о подводном колоколе, лыжах для хождения по морю, как посуху, о человеческих крыльях. Когда же Леонардо наводил речь на дела – укрепления замка, канал Мартезану, отливку памятника, – тотчас уклонялся от разговора с брезгливым скучающим видом.