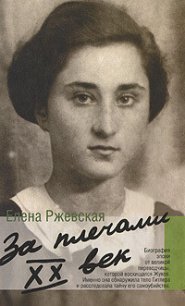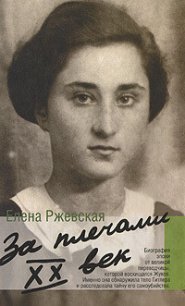Берлин, май 1945 - Ржевская Елена Моисеевна (читать книги бесплатно .TXT) 📗
Он встал и пошел к двери, и все мы пошли за ним.
Гребенюк потянулся через стол к капитану Петрову, спросил:
— Так решили? Филькина пошлем? Петров качнул утвердительно головой.
— Лучше Филькина нету. — И не сдержался — болезненно поморщился, его одолевала изжога. Он прошел в угол комнаты, зачерпнул воды в ведре и вернулся к столу. Майор Гребенюк задумчиво смотрел в окно.
— Пройдемся? — предложил он Петрову.
Всыпав в кружку порошок питьевой соды, Петров помешал воду большой жестяной ложкой, и, запрокинув голову, выпил залпом, оставив на усах белые нерастворившиеся крупицы. Снял с гвоздя фуражку и вышел следом за майором.
В окно мне были видны их спины: статная, перетянутая накрест новыми желтыми ремнями — майора и капитана Петрова — в мешковатой гимнастерке, без следа военной выправки.
Вскоре в дверь тихонько постучали и просунулась голова.
— Приказано явиться. Сами-то надолго ушли? — Филькин стоял на пороге. Он быстро оглядел комнату. — Пишмашинка! — обрадованно заулыбался, просительно вскинул на меня черные блестящие глазищи: — Можно?
Я спросила его, где он выучился печатать.
— Приходилось, как же. В кадровой на границе полгода в писарях отстукал.
До войны он жил в Ярославле, работал на заводе механиком. В деревнях, где мы располагались, он натаскивал отовсюду старые стенные, давно отказавшиеся служить часы, складывал их возле своего вещевого мешка и все свободное время ковырялся в механизмах. Был он находчив во всякой обстановке, шел на самые рискованные задания, а главное, был удачлив.
Вынув из кармана гимнастерки сложенный вчетверо клочок бумаги, он разложил его на столе и одним пальцем быстро застучал на машинке.
Я подошла и заглянула. Филькин окончил последнюю фразу, поставил восклицательный знак, отодвинулся с табуретом от стола и, глядя издали на отпечатанный лист, самодовольно спросил:
— Прочли? Нравится? Когда пакет возил в соседнюю армию, в Торжке познакомились…
Филькин писал:
«Добрый день веселый вечер, шлю тебе привет сердечный от моих голубых глаз только Физочка для вас.
Добрый день счастливая минута.
Здравствуй моя дорогая Физочка, шлю тебе свой сердечный привет и тысячу наилучших пожеланий твоей счастливой жизни. Физочка!.. Почему вы мне не пишите писем или вы меня совсем забыли и не нуждаетесь мной. Если так, то я тебе пишу это последнее письмо.
Писать больше нечего, жду ответ. Твой любимый, которого ты совсем забыла навсегда!»
— Идут, — увидел Филькин. Он выдернул из машинки лист, быстро сложил его и спрятал в карман.
— Подсаживайся к столу, товарищ Филькин, — сказал майор, снимая фуражку, — дело есть. Не простое дело. Трудное, — продолжал он, помолчав. — Прямо скажу: как повезет. В тыл к немцам пройти надо и назад вернуться. Ты как думаешь?
У Филькина дрогнули и сошлись на переносице брови.
— Чего ж думать, товарищ майор.
— Хочу, чтоб подумал, потому и спрашиваю, — перебил майор. — Ты с задания недавно вернулся, — может, не отдохнул еще.
Мне показалось, что майору хотелось, чтобы на этот раз не Филькин, которого он считал «удачливым чертом», а кто-нибудь другой рисковал жизнью.
— Не в первый раз, товарищ майор.
Склонившись над картой, Филькин внимательно слушал майора, запоминая маршрут, медленно покачивал головой, приоткрыв рот с выщербленным впереди зубом. «На часах зубы проел», — говорили о нем во взводе.
То, что расходится весна и армия стоит в обороне, чувствуется во всем: и люди добрее, отзывчивей, больше рассказывают о себе, и майор с утра азартно вертится на турнике, и Ваня Мокрый встает задолго до подъема и выходит постоять в поле, и Подречный реже врывается во взвод, чтобы безголосо, натужно вызывать к майору.
Повесив на руку ведро, он идет с утра по хутору шаркающей своей походкой, щуря по сторонам рыжеватые глаза.
Завидя впереди Степу-повара — у того по ведру в руке, — прибавит шагу, окликнет:
— Как дела, Игнат?
— Чего ты до мэне причепывся, як будяк до хвоста собачего. Якой я тебе Игнат?
— Ну как же не Игнат? — Безбровый лоб Подречного сморщится, задрожит в смешке. — Ну точь-в-точь как наш Игнат, председатель ревизьённой комиссии.
На краю хутора, возле палатки, в которой отдельно ото всех живет и работает со своими помощниками радист — младший лейтенант Белоухов, Подречный отстанет, засмотрится на младшего лейтенанта. Тот без гимнастерки, согнувшись в поясе, набирает пригоршни воды и, уткнувшись лицом в ладони, фыркает и брызжется. Сливает ему сменившийся с поста Ваня Мокрый. Винтовка торчит у него за спиной.
— Умыл? — крикнет ему Подречный, когда младший лейтенант, натерев докрасна полотенцем лицо, скроется в палатке. — Сам-то умойся, э-эх, Ваня Мокрый!
— Ну что ты меня все: Ваня Мокрый. Меня сроду Иваном не звали. А теперь и во взводе через тебя мое фамилие никто не вспоминает, все — Мокрый да Мокрый.
Подречный хлопнет его по плечу:
— Это, парень, был у нас в деревне Ваня Мокрый. Раньше его никто не вставал, вроде как ты, с самой первой росой. Про него говорили: Ванька всю росу собрал. Мы только подымаемся, а он уже всю ее оббил. Потому и звали Мокрый, Ваня Мокрый.
Быстро бежит ручей, перекатывается вода по камешкам. Скоро мельчать ему, высушит его солнце. Прислушивается Подречный — тихо вокруг, слышно, как в роще заливаются птицы. И кажется, что и впрямь хутор населен его земляками и сам он не солдат, посыльный и ординарец при майоре Гребенюке, а кладовщик колхоза «Заря новой жизни», в восьмидесяти километрах от Ярославля.
Он вошел в комнату в сумерках, кивнул мне и окликнул задремавшего у печи Подречного:
— Жив, Михалыч?
Подречный вздрогнул, вскочил на ноги.
— Вылечились, товарищ старший лейтенант?
— А то как же. На вот. — Он снял с головы пилотку и кинул Подречному, — Завтра фуражку мою отыщешь. Эту выбрось. В госпитале такой фиговый листок выдали, треть макушки не прикроешь. А это что за девушка?
— Переводчик, товарищ старший лейтенант Дубяга, — ответила я.
— А фамилию мою откуда узнали?
— Догадалась.
Это был он, старший лейтенант Дубяга, о котором за все его долгое отсутствие постоянно вспоминали.
— Майор где?
— На передовую уехал. — Подречный суетился, собирая поесть. — Три месяца никак в госпитале пробыли. Слава богу, нога цела.
Дубяга отказался от еды. Отстегнув ремень, снял шинель, распахнул ворот гимнастерки и сел на Майорову койку, на его домашнее, красное в синих разводах, байковое одеяло. Он стянул сапоги и далеко отшвырнул их.
— Девушка, вы дежурная? — громко спросил он. — Если я буду храпеть, бейте меня телефонной трубкой.
Он лег на койку навзничь, скрестил вытянутые ноги, закрыл глаза и захрапел.
Я прикрутила фитиль в лампе и вышла на крыльцо. С яркого света в темноту. Прошел дождь, было свежо и беззвездно. По темному небу шарили чужие прожекторы. На левом фланге у немцев вспыхивали ракеты. Четко — так никогда не услышится днем — застучал пулемет. Филькин полз к траншеям противника. Может быть, это били по нему. По хутору прошел ветер, и пахнуло молодыми листьями и рыхлой землей…
Лошадь пылит на пригретом солнцем большаке, я подпрыгиваю в телеге. Поле и поле. На обочине — светло-зеленая трава, еще не прибитая пылью. За крутым поворотом — снова поле. По зеленому полю женщины, впрягшись, тянут плуг, — десять женщин, по пять в ряд, связаны между собой веревками, веревки прикреплены к плугу. Одиннадцатая направляет плуг.