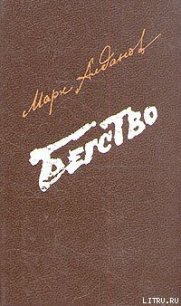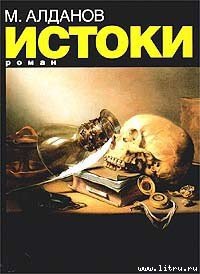Живи как хочешь - Алданов Марк Александрович (книги онлайн полные TXT) 📗
– Вся эта наша «Афина» призрак, – сказала она. – И слава Богу! Все воображаемое лучше, чем то, что действительно существует. В так называемой настоящей жизни есть много хорошего, но представить себе я могу в тысячу раз лучшее. И представляю себе, но как! Долго, часами, со всеми подробностями! Поэтому у большинства людей одна жизнь, а у меня множество.
– Что же вы себе представляете?
– Каждый день другое… Не раз представляла себе, как я убиваю человека.
– Какого-нибудь контрреволюционера?
– Иногда и наоборот. Пробовала представить себя Шарлотой Кордэ: как она идет убивать Марата. Правда, вышло плохо. Я кстати уверена, что Марат нарочно тогда сидел в ванне, чтобы показаться голым молодой красивой женщине… И она это тотчас почувствовала… Вас шокируют мои слова?
– Да, некоторой своей неожиданностью, – ответил Яценко с полным недоумением. В передней послышался звонок. – Это звонок Кут-Хуми?
Тони засмеялась опять.
– Нет. Это уже начинают собираться люди на заседание, – сказала она и вышла, помахав ему рукой. «Кажется, совсем одурманена. Хороша секретарша для общества Николая Юрьевича! Но он был прав, есть в ней и что-то жалкое и привлекательное. Да, лучше было бы уйти из этого общества как можно скорее. Так, конечно, я и сделаю… Впрочем, надо еще услышать, что скажет Николай Юрьевич!"…
Раздавались все чаще звонки, большей частью робкие, коротенькие. Одни члены «Афины» входили в зал нерешительно, стараясь поскорее сесть где-нибудь в задних рядах и не обращать на себя внимания. Другие, напротив, появлялись с видом уверенным и с полминуты молча смотрели в упор на статую богини. «Этой даме, кажется, хотелось стать на колени, но она не знает, полагается ли… А эти se recueillent, как официальные лица перед могилой Неизвестного Солдата. Кто эти люди? Конечно, теперь в Париже множество таких кружков с мистикой и без мистики, с паролями вроде „Joe sent me“. Ведь „я скоро собираюсь в „Афины“, это собственно, то же самое, с той разницей, что этих никто решительно не преследует. Какой-нибудь философ выдумывает свой „изм“, по случайности он нравится, а затем „исты“ устраиваются по-своему, очень мало думая о вождях и о философии. И никакой тут „тяги к нездешнему“ нет, а просто поветрие, мода, а кое-где и тяга к очень „здешним“ удовольствиям.“ Преобладали молодые люди и почтенного вида дамы. – „Совсем как у нас в ОН, – вдруг подумал Яценко и почему-то обрадовался, как будто в этом сходстве для него открылось что-то важное. – Ну, да, вот эта старуха наверное тоже из тех, что ездили когда-то мирить Бриана с Штреземаном. Им главное, чтобы все было страшно идейно и самое, самое последнее слово… А этот седовласый человек, может быть, как и Николай Юрьевич, во всем решительно изверился, знает, что скоро умрет, и хватается еще и за эту соломинку: вдруг с „Афиной“ умирать будет легче? Вот у них: Republique Occidentale. Ordre et Progres“, и y нас в ОН что-то висит над трибуной, и скоро, говорят, введут какую-то нецерковную молитву, приемлемую для всех религий, даже для атеистической… А эти мальчишки, быть может, слышали о „черной мессе“, ими руководит Половой Аффективный Мотор: они надеются, что после заседания будет „оргия“. Таких в публике Объединенных Наций, конечно, нет, но они и здесь, верно, ничтожное меньшинство, да и должна же быть некоторая разница», – с усмешкой думал Яценко.
Когда все члены «Афины» собрались в храме, а Дюммлер занял место на трибуне, Гранд вошел в боковую комнату и подал Тони цветок.
– Синяя датура: «не верьте клевете», – начал он. Вдруг лицо его дернулось от злобы.
– Что с вами?
– Я тебе говорю в сотый раз, что ты не должна носить это ожерелье! По крайней мере, во время заседания!
– Я забыла.
– Спрячь его в ящик!.. И поцелуй меня на счастье: я сейчас сажусь играть.
– Здесь не место целоваться.
– Место, потому что ты здесь целуешь всех кандидатов. Безобразие! Предположи, что я еще не принят в «Афину»! Сейчас же поцелуй меня, иначе я устрою скандал!.. Ты не знаешь, на что я способен!
– Я знаю, что вы способны на очень многое, – сказала она и поцеловала его.
– То-то… После заседания ты, конечно, уйдешь с профессором? Ну, да, разумеется! И это для того, чтобы в гостинице тотчас сказать ему «до свиданья»!.. Цветок тоже спрячь в ящик. Ну, прощай. Кажется, я буду играть недурно.
Он начал с мелодии «Волшебной Флейты», перешел к фантазии по Моцарту. Яценко особенно любил слушать то, что знал на память. Он помнил не «Волшебную Флейту», а свое давнее впечатление от «Волшебной Флейты». «Как будто другая вещь, не та, что играла Тони. Играет изумительно! Для одного этого стоило прийти».
С наслаждением слушал и Дюммлер, несколько волновавшийся перед своим выступлением. «Этот Гранд жулик. Гений и злодейство совместимы, хотя Микель-Анджело никого не убивал и Сальери Моцарта не отравлял: наследники могли бы привлечь Пушкина к суду за клевету. Эстетически совместимы злодейство и талант: Иван Грозный, Екатерина Медичи были прекрасные писатели. Но может ли быть талантом не злодей, а мелкий жулик? Сейчас мне говорить», – рассеянно думал Николай Юрьевич.
XI
У него был приготовлен довольно подробный конспект речи. В последние годы он опасался, что связь мыслей может порваться. Так некоторые виртуозы боятся играть без нот: вдруг забудут что дальше. Но Дюммлер был почти уверен, что прочтет по записке только длинные цитаты, которые у него были отчеркнуты красным карандашом. Когда Гранд перестал играть, Николай Юрьевич выждал минуту – аплодировать в «Афине» не полагалось – и заговорил.
Его французская речь была совершенно естественна (что бывает редко у людей, выражающихся не на родном языке). Говорил он с эстрады хуже, чем в гостиной, и годы на нем сказывались, но в его уверенной манере еще чувствовался большой опыт. Яценко не раз замечал, что иные, даже даровитые ораторы, не уважающие своей публики и не готовящиеся к речам, иногда начинают нести вздор. За Дюммлера, как сначала показалось Виктору Николаевичу, можно было быть спокойным: не напутает, не собьется, не скажет ничего неуместного, не затянет чрезмерно своей речи, не даст слушателям соскучиться. Однако, оттого ли, что он был немного раздражен на старика за бутафорию «Афины», Виктор Николаевич стал внимательно слушать не сразу, лишь через несколько минут. Дюммлер говорил о пути к счастью, о пути к освобождению, и как будто выходило так, что у него это означает одно и то же.
– …Таким образом мы стоим перед двумя проблемами, которые в конечном счете сливаются. О первой я кратко сказал: возможно ли в наше время картезианское состояние ума? Подчеркиваю эти слова, – Дюммлер повторил: «l'etat d'esprit cartesien», – они не совпадают со словом «мировоззрение», – conception du monde. Вторая проблема, это проблема человеческого счастья. Ими, повторяю, мы и предполагаем заниматься в «Афине», не навязывая ничего друг другу, считая обязательными лишь самые основные общие положения и правила.
«Зачем же тогда глупая бутафория? – подумал Яценко.
– …Как вам известно, вопрос о счастьи с необыкновенной силой и тонкостью поставил самый удивительный из всех когда-либо существовавших народов. Превосходство древних греков над другими народами так очевидно, что они о нем и говорили редко, хотя какой-либо эллинский авантюрист мог бы говорить о своей Herrenrasse с неизмеримо большим правом, чем германский психопат, дела которого мы, к величайшому нашему позору, терпели двенадцать лет. Однако твердого решения этой проблемы эллинская философия не дала. Обычно говорят, что она эвдемонистична. Но так ли уже определенно и самое это слово? В буквальном переводе оно лишь указывает на состояние, близкое к некоему доброму демону или, скажем с натяжкой, на состояние под покровительством некоего доброго демона. Понятие и в таком смысле ценно, интересно и неопределенно: добрые демоны могут быть различные. В философской литературе есть десятки определений и самого счастья, и его роли в обосновании нравственности. «Путь к счастью"… „The pursuit of happiness“, чтобы употребить слово, увековеченное в Соединенных Штатах. Скажем с вечным умницей Вольтером: