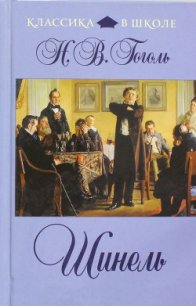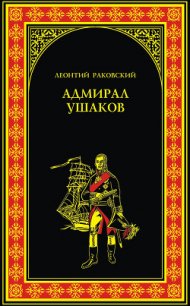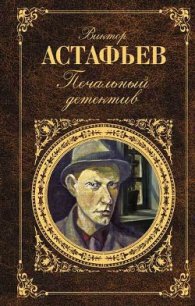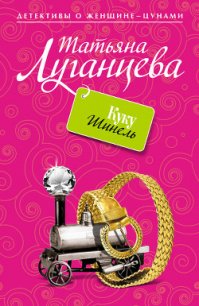Изумленный капитан - Раковский Леонтий Иосифович (книга регистрации TXT) 📗
Лэди Рондо не переносила их грубых шуток, не смотрела на них. Она говорила с самой герцогиней (Бенигна Бирон любила лэди Рондо) и с придворным красавцем и покорителем фрейлинских сердец, обер-гофмаршалом Карлом Левенвольде.
Императрица прервала Сашеньку и Машеньку, продолжавших все время петь, и крикнула Левенвольде:
– Граф, послушай! Юшкова тебе загадает загадку! Хочешь?
– Пусть говорит, – ответил Левенвольде.
Юшкова закрылась рукой, хохотала, плутовски взглядывая то на Левенвольде, то на императрицу.
– Да говори, дура, не бойся! – толкала ее в плечо императрица.
– Какое ремесло все мохом заросло? – выпалила Юшкова.
Императрица, все ее приживалки и шуты покатывались со смеху, глядя на обер-гофмаршала. Фрейлины, фыркнув, смущенно наклонились над пяльцами.
Юшкова так быстро сказала, что лэди Рондо не поняла. Она приставала к Левенвольде, который, наморщив лоб, отгадывал загадку, чтобы он перевел, что такое сказала Юшкова, отчего все так смеются.
– Das ist unm?glich [46], – качал алонжевым париком Левенвольде и, лукаво улыбаясь, поглядывал на белокурую лэди.
А императрица, колыхаясь от смеха, кричала:
– Граф, куку! Да ведь это – глаз, глаз! А не то, что ты подумал!
В общем лэди Рондо провела не без приятности, а главное не без пользы эти три часа. Но последние минуты перед отъездом из дворца были омрачены одним происшествием.
Фрейлины, Сашенька и Машенька, пели все время почти без перерыва. Иногда только императрица, желая что-либо сказать так, чтобы слышно было в другом конце большой комнаты, на минуту останавливала их. После одной из таких коротких передышек, когда Анна Иоанновна сказала: «Девки, пойте», – у краснощекой Машеньки как-то вырвалось:
– Мы устали, ваше величество!
Старшая сестра с ужасом глядела на нее – что такое она говорит.
– Что? Устала? – вдруг позеленела императрица.
Она проворно встала с кресла, отшвырнула Буженинову, сидевшую у ее ног, и так, в одних чулках, подошла к оробевшей девушке и закатила ей звонкую пощечину.
– Устала? Устала? Дрянь! – била она раз за разом.
– Аннушка! – крикнула она Юшковой: – Отведи эту мерзавку на кухню! Дать ей грязных тряпок да гайдучьих онуч – пусть постирает! Поглядим, устанет тогда, аль нет?
Сквозь желтизну рябых щек Анны Иоанновны проступил румянец.
Плачущую Машеньку увели на кухню.
А сестра, дрожащим от слез голосом, продолжала петь.
Все шло как-будто бы попрежнему – шуты кувыркались, тузили друг дружку, Буженинова чесала императрицыну пятку, галантный Левенвольде говорил о «Сне в лунную ночь» и о предстоящем концерте придворного капельмейстера Арайи, но у лэди Рондо настроение было испорчено.
Вышивали после этого недолго: ревнивая императрица, боявшаяся на час отпустить с глаз Бирона, не вытерпела – все-таки полетела сама в манеж.
– А вы напишете мисс Флоре о сегодняшнем случае во дворце? – лукаво посмеиваясь, спросил Клавдий Рондо у своей жены, которая писала очередное послание приятельнице в Лондон.
Лэди Рондо улыбнулась.
– Я написала ей об императрице. Вот на-те, прочтите!
Она подала один из нескольких исписанных голубых листочков.
– Здесь только первая фраза говорит о другом, но следующие посвящены тому, о ком вы говорите.
Клавдий Рондо прочел:
«…на улице к вам может подойти грязная баба и попросить у вас копейку на краску для лица: все русские женщины, начиная от простолюдинки и кончая придворными дамами, сильно красятся.
Сегодня я вновь была у герцогини Бирон и вновь имела счастье говорить с императрицей. Она довольна, когда я стараюсь говорить с ней по-русски и так милостива, что учит меня, когда я выражаюсь худо или затрудняюсь в разговоре. Во время ее присутствия у герцогини Бирон было несколько дам и один придворный кавалер, которые вели самый обыкновенный разговор. Императрица принимала в нем участие, как равная, сохраняя однако свое достоинство, но таким образом, что при этом не чувствуется никакого стеснения. Она обнаруживает врожденный страх ко всему, что имеет оттенок жестокости; сердце ее одарено такими хорошими качествами, каких мне никогда не удавалось видеть у кого бы то ни было…»
Клавдий Рондо вернул жене голубой листок.
– Правильно, дитя мое, – сказал он вполголоса. – Иначе нельзя писать: прежде чем письмо покинет Питербурх, его прочтет господин Ушаков.
Лэди Рондо сделала движение.
– Простите, я не совсем точно выразился: его переведут Андрею Ивановичу Ушакову.
II
Возницын уже около года сидел в Синодальной Канцелярии, а дело никак не подвигалось. За все время его только раз допрашивали и то на второй день заключения. Допрашивал сам секретарь Синодального Казенного Приказа, лысый Протопопов. Он спрашивал, зачем Возницын езживал с Борухом Глебовым за рубеж и зачем, оставив православную веру, перешел в иудейский закон.
Возницын отвечал, что веры он не менял. Но сказать, что за рубежом не был ни разу – боялся: тогда начнут выпытывать, а зачем жил в Смоленске? Он не знал еще, успел ли Афонька предупредить в Путятине или нет, и боялся как-либо навести на след Софьи. Возницын солгал, что ездил за рубеж. Он назвал все местечки, которые помнил по ту сторону рубежа – Дубровну, Ляды.
У секретаря после этого признания Возницына заблестели глаза.
– Пиши, пиши! – погонял он белобрысого канцеляриста Морсочникова.
– А по какому делу езживал за рубеж? – спросил он.
– Лечиться. Слыхал я, что в Польше есть весьма искусные лекари.
– А чем же ты болен?
– Бывает у меня болезнь на подобие великого беспамятства и обморока, – бросил вперед на всякий случай Возницын.
Он не забывал того, что исключен из армии за «несовершенным в уме состоянии».
Возницын с неделю провалялся в колодницкой избе, извелся, обовшивел, немытый и нечесанный. Единственным утешением было то, что в «бедности» его не забывал верный друг Афонька. (должно быть «Андрюша» – прим. Marina_Ch) Он приносил Возницыну поесть и не переставал уговаривать бежать. Устроить побег из колодницкой избы было довольно легко.
Возницын упорно стоял на своем: «Мне бежать нечего, я ни в чем не виновен».
Через неделю Возницына перевели из колодницкой избы в чулан при самой Канцелярии и заковали в ножные железа. Он сидел в чулане один-одинешенек. Здесь было не так грязно, как в колодницкой избе. Но бежать отсюда было труднее: в дверях день и ночь стоял на карауле солдат.
От солдата Возницын осторожно выведал, что кроме него в отдельном чулане содержится еще один колодник, какой-то старик нерусской нации. Сомнений не было – это Борух.
На душе у Возницына отлегло: значит, Афонька успел предупредить Софью.
Затем, через месяц, уже летом, солдат как-то сказал, что привезли еще одного колодника, дворового человека. Из описаний солдата Возницын понял: наконец взяли-таки и Афоньку. Но и это не встревожило Возницына – он ждал ареста Афоньки: ведь, Алена так не любила его денщика!
Возницын был вполне уверен в том, что все его дело кончится благополучно. Он жалел лишь об одном – зря уходит время! Жалел, что где-то, на чужой стороне, тоскует бедная Софья.
Он целые дни лежал на своей соломе, глядя в потолок. Думал о Софье, вспоминал все их знакомство, всю любовь с самого начала. Представлял, что в это время делает предприимчивая тетушка Помаскина.
Дни, в начале тянувшиеся так медленно, теперь летели незаметно, похожие один на другой.
Прошла зима. В маленькое, еще слюдяное оконце чулана все чаще и чаще заглядывало солнце. За окном сразу стало шумнее – шла весна.
Возницын оброс жиденькой, нелепой бороденкой, посерел от целодневного сидения в чулане.
46
Это невозможно.