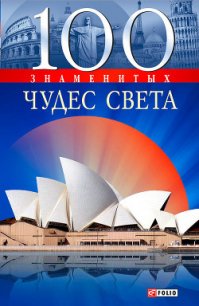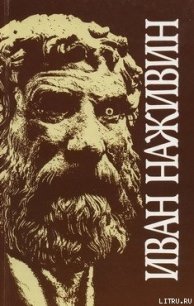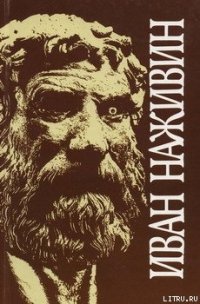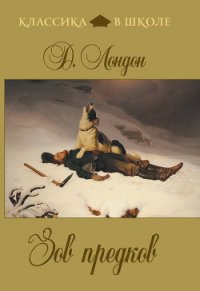Иудей - Наживин Иван Федорович (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
Язон вдруг вскочил как безумный.
— Нет, я больше не могу! — воскликнул он и, шатаясь, бросился к ярко-багровому в огнях вулкана дворцу. — Эй, рабы!
Дворец весь уже потрескался, и белые колонны то и дело рушились в чёрную бездну. Рабы выли на чёрной улице.
— Все, кто последует за мной на спасение матери, получат свободу и богатство! — крикнул Язон. — Коней!
Отозвалось всего несколько человек: остальные от ужаса просто ничего не поняли.
Ещё немного — и несколько обречённых полетели на конях петлями дороги вниз, к морю. Впереди нёсся на своём белом арабе Язон. Лошади то и дело при толчках спотыкались, и всадники летели через голову, но вставали — которые могли встать — и снова летели, безумные, на точно безумных конях с исступлёнными глазами. Вверху справа ревел вулкан и, слепя, ползла вниз с медлительной торжественностью сияющая лава…
Они, не помня ничего, летели уже вокруг подошвы горы, как вдруг впереди, в черно-багровом мраке раздался вопль нескольких голосов и Язон увидал под чёрной скалой мать, Хлоэ и дрожащих рабов. Все они были вымазаны в саже, все, простирая к нему руки, звали его на помощь… Снова из утробы земли с громом и рёвом поднялся чудовищный порыв вверх, снова все затряслось вокруг в черно-багровом мраке, и вдруг огромная скала, под которой прятался караван Эринны, зашаталась, тяжко рухнула на караван и, разбившись, бешеным потоком скал и камней понеслась под рёв вулкана вниз, в кипящее море… Лошади в ужасе храпели и упрямо трясли головами. Белый араб помертвевшего от боли Язона Вдруг заржал, яростно вздыбил, совсем уже не слушая всадника, понёсся обратно… За ним, оскользаясь, падая, понеслись остальные — становясь в числе все меньше и меньше…
…На третий день, когда извержение стало стихать и вокруг посветлело, Филет с рабами пустился из полуразрушенного дворца на поиски своего ученика и друга. Они скоро нашли на морском берегу два покрытых чёрным пеплом холмика: белый араб был уже мёртв, а Язон, без сознании, ещё дышал. Из его спутников с ним никого не было, их разыскали плачущие семьи только некоторое время спустя: поскакав на спасение своей госпожи, за свободой и золотом, все они нашли смерть…
И когда тихий Филет, мудрец, ощутил под трепетной рукой своей тихое биение сердца Язона, он, давно уже зная, что нет в мире богов, к которым человек мог бы обратиться в беде своей, поднял все же в прояснившееся, ласковое небо глаза, и в них были слезы…
XLVI. ЗВЕРЬ
Для великого мщения гнусным поджигателям Рима все было готово: огромный цирк на Ватиканском холме, среди пышных садов Нерона, украшенный прекрасным обелиском, вывезенным из Египта [78], был очищен от всей той грязи, которую оставили в нем долго жившие погорельцы. Со всех концов Италии свезены были дикие звери. Было схвачено достаточное количество отвратительных поджигателей…
Пришёл, наконец, и заветный день. Стечение народа в Ватикане было так велико, что преторианские центурии едва сдерживали напор толпы и уже не раз, действуя горбом щита и даже пуская иногда в ход и страшный pilum, ходили на римлян в атаку. И все-таки зрители бешено напирали на деревянные стены цирка и уже многих задавили на смерть. В самом цирке творилось нечто невероятное: не только все места в амфитеатре были заняты, но были переполнены народом все проходы и даже на подиуме пройти было невозможно. Сидела белая и строгая Vigro Magna в окружении своих красавиц-весталок. Были иностранные послы. Была вся знать — старики, женщины, дети… И когда появился цезарь, народ встретил его бурной овацией: он благодарил его и за предстоящие наслаждения, и за то, что он нашёл виновных в пожаре Рима, и за то, что все прекрасно зарабатывали на постройках…
Высоко, на последних ступенях, под самым велариумом, сидел в жаркой и зловонной толпе Павел. В душе его свершалась жуткая казнь. Он не мог подавить в себе тяжкого чувства ответственности во всем происходящем. В бессонные ночи он с ужасом и недоумением вспоминал свои пророчества: как скоро явится при звуке золотых труб Мессия для последнего суда, как его верные не умрут, не увидя этого торжества правды в мире, как смерть будет для них только мимолётным сном, после которого они немедленно воскреснут в светлейшую жизнь плеромы. Он смотрел через тысячеголовую толпу на аметистовую тогу императора, в которой теперь для него сосредоточилось все зло мира, и поражался, как мог он, слепыш, звать людей к рабской покорности этому человеку-зверю, будто бы поставленному Богом защитником добра и правды на земле. Он понимал, что наговорил тьму глупостей, и все глупости эти он осмелился выдать за голос Божества… Он исхудал так, что даже близкие не узнавали его, и в глазах его то стоял холодный сумрак шеола, то рдели ярые огни для последнего суда… Он и тут не победил своей гордости: ни единому человеку он не признался в страшной катастрофе, которую он претерпел. Наоборот, когда ему приходилось украдкой встречаться с немногими уцелевшими верными, он сейчас же входил в свою роль посланника Божия и именем Божиим обещал им то, что — теперь он знал это — не свершится. Он не понимал, что это было, все это прошлое его: помешательство ли, сон дурной или наваждение злого духа?
Внизу, на подиуме, сидел Язон с Филетом. Иоахим после страшной гибели Эринны никуда не показывался. Не хотел идти и Язон, но настоял на этом Филет.
— Ты должен видеть, милый, что не одному тебе в мире больно, — говорил он. — И ты должен видеть человека и все, на что он способен. Только тогда поймёшь ты, может быть, до конца то, что я — помнишь? — говорил тебе на берегу озера гельветов о Белой Горе.
Но Язон все же пришёл, главным образом, из-за Миррены: а вдруг она, христианка, окажется среди осуждённых?! Он страшно исхудал. В глазах его — они стали ещё больше — стоял какой-то свинцовый покой. Но душа его горела скорбями, как в тот страшный день пылала перед ним во мраке бешеная Этна. Жизнь дала ему слишком много страшных уроков сразу, и он сгибался под тяжестью их. Он понял, что человек любит только призраки, обманы, что всем в жизни правит случай и что он, Язон, совсем не владыка даже в своей жизни, а только жалкая игрушка в чьих-то руках…
Ни Павел, ни Язон, ни Филет — он боялся за Елену — не обращали внимания на то, что происходило вокруг них: они ушли в себя. Но вот прозвучали медные трубы, все зашевелилось и — затихло… Все глаза были обращены на подземелье, откуда должны были показаться осуждённые, всякий сброд, который отлично мог на этот день сойти за христиан. И вот с этим особым, страшным железным звуком загремела решётка и на залитую солнцем арену вылилась толпа измождённых, замученных людей…
Многие сразу признали красавицу Перпетую. От её недавнего сияния не осталось и следа. Её до арены то и дело насиловали пьяные вигилы. Она как-то сразу потеряла веру: не может быть, чтобы Господу был нужен её позор и весь этот ужас… И как только из хрупкого здания веры вывалился этот кирпичик, так за ним быстро посыпались другие, и теперь это был почти уже мёртвый человек, который не имел даже сил казнить себя за все, что он сослепу наделал: за горе любимых стариков и милого мужа, за сиротство деток несчастных… Рядом с ней шёл тихий Тимофей — Павел весь затрясся, — который в простоте души своей не понимал, что он такого злого сделал, что должен погибать этой страшной смертью. И с неменьшим ужасом узнал Павел двух стариков, Жаворонка и Пантеруса, и необрезанных, и некрещёных, язычников… Жаворонок все показывал амфитеатру свои беззубые челюсти — так, как показывал он их в былое время в германских лесах Германику, — и свои раны, а Пантерус шёл, не поднимая головы: все равно помирать, видно, надо. Но жизни было жалко и более всего в ней жалко было тех солнечных дней галилейских, когда он восторженно пил с черноокой красавицей в золоте спелой кукурузы счастье любви… Душа Павла вздыбилась в ярости: где же Господь в справедливости Своей? Почему посылает Он и этих бедных язычников наряду с верными в пасти зверей?
78
Обелиск этот в настоящее время стоит на площади святого Петра.