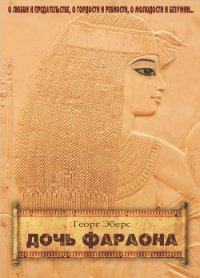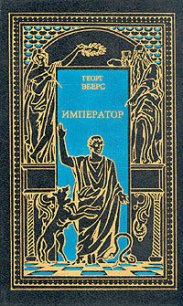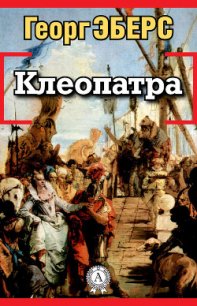Тернистым путем [Каракалла] - Эберс Георг Мориц (читать онлайн полную книгу .txt) 📗
Цезарь тихо засмеялся.
– Кто пожелал бы ничего не скрывать? Впрочем, стихи недурны. Дай мне свою табличку! Если другие стихотворения не злее этого…
– Они злее, – прервал его встревоженный Александр, – и мне больно, что я помогаю тебе мучить себя самого!
– Мучить? – повторил император презрительно. – Эти стишонки забавляют меня, и я нахожу их поучительными. Вот и все. Давай табличку!
Это приказание прозвучало так сурово и решительно, что Александр вынул маленькую табличку, заметив при этом, что живописцы обыкновенно пишут плохо, и то, что он нацарапал здесь, рассчитано только на поддержку со стороны его памяти.
Прежде его подстрекало то, что император узнает правду через него; но теперь ему сделалась ясною вся глубина рискованной отваги, которою он увлекся. При этом он смотрел на буквы, нацарапанные на воске, и ему пришло в голову в конце второго стихотворения слово «карлика» заменить словом «цезарь», а третью очень едкую эпиграмму совсем скрыть от императора. Четвертая, последняя, была совсем безобидна, и он хотел ее прочесть после всех других, чтобы примирить его с их содержанием. Поэтому он не хотел показывать самой таблички. Но когда он вздумал убрать ее от глаз цезаря, Каракалла вырвал ее у него из рук и прочел с трудом:
– Так, так, – прошептал император, побледнев, и затем продолжал глухим голосом: – Все то же самое. Мой брат и мой рост! В этом городе ученых, по-видимому, подражают варварам, избирающим в свои цари того, кто длиннее всех и шире в плечах. Если третье стихотворение не содержит в себе ничего другого, то остроумие твоих сограждан, и без того очень жидкое, сделается мне совсем скучным. Посмотрим, что тут следует; хореи… Едва ли в них окажется что-нибудь новое! Подай вот тот кувшин! Пить! Наполни стакан!
Но Александр не вдруг послушался этого внезапно брошенного приказания и ухватился за табличку, уверяя, что император не будет в состоянии разобрать его почерк.
Однако же Каракалла положил на табличку руку и крикнул художнику повелительно:
– Пить! Я приказал налить стакан!
С этими словами он впился глазами в восковую табличку и с трудом прочел неуклюжие буквы, которыми художник записал следующие стихи, подслушанные им в харчевне «Слон»:
Между тем Александр сделал то, что ему было приказано, и когда он снова поставил кувшин на место и вернулся к императору, то испугался: руки Каракаллы метались в судорогах туда и сюда, и обе половинки восковой таблички, которую он разломал во время припадка, валялись у его ног. С пеною у рта он испустил тихий жалобный крик и, прежде чем Александр успел помешать этому, побежденный чрезмерным страданием, впился зубами в ручку кресла, с которого готов был упасть.
Охваченный испугом и искренним состраданием, Александр старался поднять его; но лев, который, должно быть, вообразил, что художник был виновником изменившегося состояния его господина, с ревом поднялся на ноги и, наверное, растерзал бы юношу, если бы зверя после кормления не привязали на цепь.
Александр, не теряя присутствия духа, отскочил за стул и потащил его прочь вместе с лишившимся сознания цезарем, который служил ему также и щитом против рассерженного зверя.
Гален настойчиво предостерегал императора от чрезмерного употребления вина и от сильных душевных волнений; и как основателен был его совет, это доказывал припадок, наступивший с ужасною силой после того как цезарь нарушил оба эти предостережения, одно вслед за другим.
Александру пришлось употребить всю силу своих рук, укрепленных в гимнастической школе, чтобы удержать на кресле больного, силу которого, и без того довольно значительную, удвоил жестокий приступ судорог.
Услыхав яростный рев льва, который, подпрыгивая на своей цепи, уже далеко подвинулся вперед, и крик Александра о помощи, вся свита императора бросилась в комнату. Однако же придворный врач и дворцовый слуга Эпагатос остановили других и вдвоем, при помощи полуслепого Адвента, стали ухаживать за больным, и им удалось скоро привести цезаря в чувство.
Бледный и как бы разбитый, цезарь лежал теперь на диване. Он бессмысленно уставился глазами в пространство, не способный шевельнуться. Александр держал его дрожащую руку, и когда придворный врач, человек средних лет, любившей пожить в свое удовольствие, подошел к художнику и сделал ему знак отойти, желая заступить его место, Каракалла тихим голосом приказал юноше остаться.
Как только прерванная умственная деятельность императора возобновилась, его мысли снова вернулись к причине последнего припадка. Он с горьким, умоляющим взглядом просил Александра еще раз подать ему табличку, но художник сказал, и Каракалла, по-видимому, охотно поверил этому, что он раздавил воск на дощечке во время припадка. Больной сам чувствовал, что подобное занятие ему еще не под силу.
После довольно продолжительного молчания он заговорил об остроумии александрийцев и пожелал узнать, где и от кого живописец слышал эти эпиграммы. Но Александр снова стал уверять, что ему неизвестны имена их сочинителей. Одну он слышал в бане, другую в харчевне, а третью у завивальщика волос.
Император с грустью посмотрел на густые темные, умащенные кудри юноши и сказал:
– Волосы подобны другим благам жизни. Они остаются прекрасными только у здоровых. Ты, счастливец, едва ли знаешь, что значить быть больным. – Затем он безмолвно уставился глазами в пространство и после некоторого молчания внезапно встрепенулся и спросил Александра, как вчера Филострат спрашивал Мелиссу: – Ты и твоя сестра христиане?
Когда юноша с живостью дал отрицательный ответ, то Каракалла продолжал:
– А все-таки! Твои эпиграммы довольно ясно показывают, как относятся ко мне александрийцы. Мелисса тоже родилась в этом городе, и когда я подумал, что она превозмогла себя, чтобы молиться обо мне, то… Моя кормилица, лучшая из женщин, была христианка. От нее я слышал учение любить врагов и молиться за тех, которые нас ненавидят. Я всегда считал это правило невыполнимым, но теперь… твоя сестра… то, что я сказал сейчас относительно волос и здоровья, напоминает мне о словах Распятого, которые не раз говорила мне кормилица: «Ищущему будет дано, а у неимущего отнимется». Как жестоко это и, однако же, как премудро, как страшно метко и истинно! Здоровый! Разве он уже не обладает всем, и сколько новых богатых благ приносит ему этот лучший из всех даров! А болезнь, взгляни только на меня, как много бедствия приносит это проклятье, которое уже и само по себе достаточно ужасно, как много горечи вливает оно во все! – Затем он иронично рассмеялся и продолжал: – А я! Я ведь властитель мира; я обладаю многим, очень многим, и поэтому мне будет очень много дано, и мои самые смелые желания должны быть удовлетворены!
– Да, господин, – сказал Александр с живостью, – за страданием следует радость.
25
Филадельф – братолюбец; мизадельф – братоненавистик.