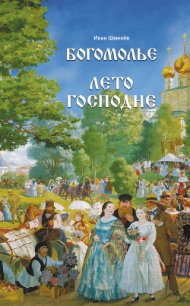Лето Господне - Шмелев Иван Сергеевич (читаем книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки… — таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку… — «давно дома, спит уж… за свечкой-то гляди, не подожги… носом клюешь, мо-лельщик…» Слышу вдруг треск… — и вспыхнуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое… такое… — было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе… — вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое… Вспыхивает, трещит… синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает… неуловимо это, как тонкий сон.
Ю. Л. Кутыриной
На святой
— Вот погоди, косатик, придет Святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки… и Гвоздь Господень, и все соборы наши издревнии, и Царя-Колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой… — сколько раз обещался Горкин. — маленько подрастешь, тебе и понятней будет. Вот, на Святой и сходим.
Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел-исправился, как большие, и вот — Святая.
Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске — веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще во сне — звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду, из сказки. Открываю опять глаза — и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. яркое утро-солнце, пасхальный звон!.. Розовый накомодник, вышитый белыми цветами… — его только на Пасху стелят! — яркие розы на иконе… Пасха!.. — и меня заливает радостью. На столике у постели — пасхальные подарки. Серебряное портмоне-яичко на золотой цепочке, а внутри радостное-пунцовое, и светится золотой и серебрецо, — подарил мне вчера отец. Еще — большое сахарное яйцо, с золотыми большими буквами — X. и В., а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника, над мохом, — радостная картинка Христова Воскресения. И еще — золотисто-хрустальное яичко, граненое все, чудесное! если в него смотреть, светится все, как в солнце, — веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, — ну, до чего чудесно! Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков, вместо одного, купленного на «Вербе»… множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как драже. Отнимаю яичко, вижу: живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера нахристосовал на дворе у плотников, — зеленые, красные, луковые, лиловые… А вон — жестяная птичка, в золотисто-зеленых перышках, — «водяной соловей, самопоющий»; если дуть через воду в трубочку, он начинает чвокать и трепетать. Пасха!.. — будет еще шесть дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера, будет кулич и пасха… и еще долго будем, каждое утро будем, еще шесть дней… и будет солнце, и звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах пасхи… а сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости… и будет еще хорошее… Что же еще-то будет?..
Еще на Страстной выставили рамы: и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана-Воина, дальше где-то… — тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве, всех пускают звонить на колокольни, такой обычай — в Пасху поликовать. Василь-Василич все вчера руки отмотал, звонивши, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще, хорошее?..
За окнами распустился тополь, особенный — духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще, чуть в зелень; к носу приложишь — липнут. Если смотреть на солнце — совсем сквозные, как пленочки. Кажется мне, что это и есть масличная ветка, которую принес голубь праведному Ною, в «Священной Истории», всемирный потоп когда. И Горкину тоже кажется: масличная она такая и пахнет священно, ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить, для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо — от духу задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик — пахнет живым арбузом. Что же еще… хорошее?.. Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал: какие-то «остатки», от графа Мамонова, какие-то «крепостные музыканты», в высоких шляпах с перышком сокольим, по старинной моде, — теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, ко торые собирают на винцо; а эти — Царю известны, их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку-старину, какой уж никто не помнит.
В передней, рядом, заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птицы особенно ликуют, так устроено от Творца. Реполов у меня что-то не распевается, а торговец на «Вербе» побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунул ли самочку? — трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин-птичник и разберет, знает все качества.
Я начинаю одеваться — и слышу крик — «держи его!.. лови!..». Вскакиваю на подоконник. Бегут плотники в праздничных рубахах, и Василь-Василич с ними, кричит: «за сани укрылся, сукин кот!.. под навесом, сапожники видали… тащи его, робята!..» Мешает амбар, не видно. Жулика поймали?.. У амбара стоит в новенькой поддевке. Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно. Кричит ребятам: «полегши, рубаху ему порвете!.. ну, провинился — покается…» — слышу я в форточку: — «а ты, Григорья, не упирайся… присудили — отчитывайся, такой по рядок… пострадай маленько». Я узнаю голос Гришки: «да я повинюсь… да вода холодная-ледяная!..» Ничего я не понимаю, бегу во двор.
А все уже у колодца. Василь-Василич ведра велит тащить, накачивать… Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда. Упрашивает:
— Ну, покорюсь! только, братцы, немного, чур… дайте хоть спинжак скинуть да сапоги… к Пасхе только справил, изгадите.
— Ишь какой!.. — кричат, — спинжак справил, а Бога обманул!..Нет, мы те так упарим! Я спрашиваю Горкина, что такое.
— Дело такое, от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать! Скорняк напомнил, сказал робятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул: отговелся я, говорит. А сам уходил со двора, отпускал его папашенька в церковь, поговеть, на шестой. Ну, я, говорит отговемши… а мы его все поздравили — «телу во здравие, душе во спасение»… А мне сумнение: не вижу и не вижу его в церкви! А он, робята дознали, по полпивным говел! И в заутреню вчера не пошел, и в обедню не стоял, не похристосовался. Я Онтона посылал — смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит, нельзя от дому отлучаться в такую ночь, — в церкви все. Не пошел, спать пошел. Робята и возревновали, Василь-Василич их… — поучим его, робята! Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит.
Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках. Ждут отца. Марьюшка кричит — «попался бычок на ве ревочку!». Никто его не любит, зубастый очень. А руки — золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, — как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит, тоже зубастая: «ай купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит… ты покайся, — может, и простят робята». Гришка плаксиво говорит: «да я ж ка-юсь!.. пустите, ребята, ради Праздника!..» — «Нет, говорят, начали дело — кончим». И Василь-Василич не желает прощать: «надо те постращать, всем в пример!» Приходит отец, говорит с Горкиным. — Правильно, ребята, ва-ляй его!.. Говорят: «у нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено… таких у нас в Клязьме-реке купали!» Отец велит: «дать ему ведра три!» А Гришка расхрабрился, кричит: «да хошь десяток! погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали — «а, гордый он, мало ему три!» Отец тоже загорячился: «мало — так прибавим! жарь ему, ребята, дюжинку!..» Раз, раз, раз!.. Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить — сушиться, и стакан водки ему, согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все дивятся, какой же самондравный! Говорят: «В колодце отговелся, будет помнить». Горкин только рукой мах нул, — «отпетый!». Пошел постыдить его. Приходит и говорит: