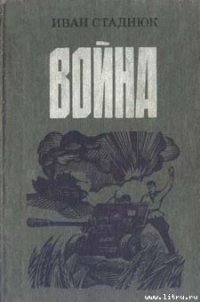Москва, 41 - Стаднюк Иван Фотиевич (книги онлайн бесплатно серия txt) 📗
Вот и въездная арка с массивными колоннами по бокам, замыкавшая парадный двор; под ней – кованый орнамент железных ворот. По сторонам двора – тоже по два ряда мощных колоннад; они соединяли фасад дворца с флигелями, опираясь на высокие фундаменты и неся на себе переходные балконы…
Постепенно все воскресало в памяти! Даже пряный запах цветов знакомо и тревожаще дохнул в лицо с круглой клумбы, пространно пестревшей в центре двора…
Пройдя сквозь арку в приоткрытые ворота, Глинский огляделся, будто еще не веря, что все это не сон. Увидел: из торцовых дверей флигеля, что был слева от него, вышли мужчина и женщина в белых халатах. Значит, верно – госпиталь здесь… Справа, у входа во второй флигель, сидели среди колонн в плетеных креслах люди в военной форме; на них ярко белели бинты – у кого перевязана рука, у кого – лицо, нога или под расстегнутой гимнастеркой грудь. Подойдя к ним, увидел, что раненые забивают за круглым столиком «козла» – играют в домино. Чуть помедлив, спросил:
– Будьте любезны, это первый корпус госпиталя? На него все посмотрели с недоумением, и он со страхом подумал, что допустил какую-то непростительную ошибку.
– Главные корпуса госпиталя там, за парком, – указал рукой подполковник с округло-одутловатыми чертами лица нездорового цвета, он зажал между коленками два костыля. – Там первый и второй…
Глинский благодарственно кивнул и молча зашагал к противоположной колоннаде. И тут увидел распахнутые большие двери во дворец, из которых прерывистым ручьем вытекал поток людей в больничных халатах; кое на ком белели бинты… По их сосредоточенно-одухотворенным лицам, по задумчивым глазам, будто обращенным вместе с мыслями еще туда, во внутрь дворца, Глинский понял: это экскурсия выздоравливающих раненых… Что же они могли там увидеть?.. Ведь то старое Архангельское, с его великолепными памятниками русской и мировой культуры, как ему было известно, давно перестало существовать! Живя еще во Франции, Германии, он не раз читал в газетах о варварстве большевиков, не уберегших Эрмитаж, Третьяковку, Загорск, Архангельское… В Париже Глинский своими глазами видел несколько знакомых ему картин, вывезенных Троцким отсюда, из Архангельского (здесь в двадцатых годах помещалась его резиденция). Картины, кем-то купленные у Троцкого, перепродавались по довольно высоким ценам в богатом антикварном магазине, который имел филиалы в некоторых странах Европы. Да и само Советское государство, испытывая тяжкие трудности в годы своего становления, когда ему крайне нужна была иностранная валюта, позволяло себе выставлять на международных аукционах некоторые созданные в прежние века произведения живописи и скульптуры.
Позабыв, зачем он сюда приехал, Глинский будто против своей воли шагнул в направлении четырехколонного портика, к знакомым стеклянным дверям в его глубине, ведшим в вестибюль дворца…
И здесь почти все как было – строго, торжественно и чуть таинственно. В глубоких нишах на каминах-постаментах застыли в мраморной неподвижности Амур и Психея и Кастор и Поллукс – герои древнегреческих мифов; вход в парадные залы сторожили беззлобные мраморные псы, повернув головы в разные стороны… А вот и тот памятный стол с двумя кушетками по бокам… Но не видно на столе знакомой «Книги для гостей» – весьма толстой, в прочном кожаном переплете темно-серого цвета. В ней с начала прошлого века хозяева дворца предлагали самым почетным гостям оставлять на память грядущим поколениям свои автографы. Старый граф Глинский – отец Владимира – тоже имел честь дважды расписаться в «Книге для гостей», чем немало гордился и о чем нередко рассказывал в кругу близких, не забывая уточнять, что в книге запечатлены собственноручные автографы самых прославленных династий Российской империи – Голицыных, Ермоловых, Васильчиковых, Сумароковых.
Владимир Глинский в последний приезд в Архангельское, будучи тогда студентом четвертого курса университета, благоговейно листал «Книгу для гостей», надеясь, что и ему предложат расписаться в ней. Но хозяевам почему-то не пришла в голову такая простая мысль… Зато вволю насмотрелся он на русские, французские, немецкие, английские росписи, впитывая в свою цепкую память наиболее звучные имена: «Мария и Аглаида Голенищевы-Кутузовы…», «Графиня Елисавета Вл. Шувалова…», «Петр Верещагин…», «Павел Жуковский…», «Марина и Китти Урусовы…». Особенно запомнилась роспись императора Николая от 23 мая 1913 года; Владимир даже скопировал ее, похожую на лежащее поперек страницы рыбацкое удилище с намотанной на него и провисшей от верхнего кончика до комля леской…
Воскрешая в памяти свои былые приезды в Архангельское, Владимир Глинский действительно словно вернулся в годы юношества. В нем что-то упруго всколыхнулось и заныло той сладкой болью, которая похожа на пробудившуюся давнюю, недолюбленную любовь. И не только пробудилось где-то в глубинах сердца это странно волнующее чувство, но и взяло над ним власть, заставляя картинно вспыхивать в памяти все, что по ее велению вплеталось в венок прошлой жизни, в которую он возвратился на время, как в сказку или в сновидение…
Вот Владимир уже в Овальном зале… Все здесь как и прежде, если память ему не изменяла… Нет, не изменяла память. Он с некоторой оторопью глядел на коринфские колонны и на высокие светильники между ними; подняв лицо, увидел купол, покрытый симметрично расположенными золотистыми квадратиками – они ему никогда не нравились. Зато в центре купола, в контрастно очерченном круге, легко и грациозно парили на фоне блеклых облаков Амур и Психея, как бы соединяя застывшим порывом своих чувств небо и землю. А из центра купола спускалась на прочном стержне-держателе трехъярусная люстра, восторгая взгляды людей невообразимо причудливым орнаментом и гнутыми подсвечниками. Покрытая позолотой люстра особенно при зажженных свечах была как бы сердцевиной Овального зала, являя собой олицетворение силы человеческого воображения, создавшего ее.
И что поражало его до слез, до экстаза – Владимир не только узнавал все окружавшее его здесь. Ему вспоминались, возрождались в нем и те чувства, которые испытывал здесь в те отшумевшие годы. Они, эти чувства, возвращаясь из прошлого, с дурманящей навязчивостью напоминали о себе, особенно когда смотрел из Овального зала в оба конца анфилады. Вот и сейчас перед его взором двери и окна дворца потеряли очертания и даже будто раздвинулись, сплавив воедино живое дыхание парковых деревьев с неподвижностью запечатленной жизни на картинах и настенных росписях дворца. Да и сами картины, с их небесной лазурью, с пестревшими на них былью и легендами, подчас казались его взгляду уголками парка, где вершилась причудливо-таинственная жизнь, как и мнилось, что парковые деревья, видневшиеся сквозь окна и двери, немыслимы без этих залов с великолепием, наполнявшим их.