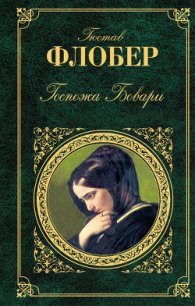Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Однако это «если» заставило себя ждать. Лидинька каждый день приносила мне сведения о состоянии здоровья графа. У отца появились странные провалы памяти, это правда. Но по краям этих белых пятен сохранились смешные подробности. Его рана все еще не зажила. Правая половина тела была холодная и не повиновалась ему. Говорить он мог сравнительно хорошо, но только тихо.
Восстановление памяти у графа и его возвращение к жизни было явно замедленным, но к рождеству он уж настолько пришел в себя, что в конце концов вспомнил и обо мне. Однажды утром, через несколько дней после рождества, он приказал позвать меня к своей постели, и я впервые его увидел спустя несколько месяцев. В подушках лежал, в сущности, совершенно новый человек. Новый старый человек, в облике которого было что-то знакомое, однако этого человека я прежде не встречал. Теперешний был намного меньше, у него было более красное лицо, несколько отекшая щека и сильно перекошенный рот. Казалось, что он насмехается если не над всем, что говорилось при нем, то, во всяком случае, над всем, что говорил он сам. И в то же время, из-за взгляда словно бы из-под отяжелевших век, он казался как-то опечаленным всем…
Он говорил очень тихо, очень хриплым голосом и все же удивительно ясно:
— Послушайте… да как же вас звали?.. Я слышал, в Москве идет суд над Разбойником? Это правда?
— Так точно, господин граф. Завтра или послезавтра ожидается приговор.
И тут, правда, еще тише, но как бы продолжая наш последний разговор, будто и не было этих четырех месяцев:
— А что делает наш… Российский герой?
— Я не знаю, господин граф.
— Ах, вы не знаете… Вы ведь не знаете и того, кто он. Не так ли? Никто не знает. Только очень немногие. Я скажу и вам. Такие вещи поучительно знать. Этот человек из наших мест. Из Ярвамаа. Лакей вяйнъярвеских Розенов.
Можно себе представить, как я был поражен. Ибо это было нечто неслыханное. Но в то же время, подавляя усмешку, я подумал: «Ах, так вот почему этот человек, этот Михельсон тебя уже давно будоражил».
Граф неожиданно крепко схватил меня своей здоровой и теплой рукой за запястье, потянул к себе, заставил сесть на кровать и, будто бы прочитав мои мысли, заговорил сквозь свою вынужденную усмешку:
— Я вижу… молодой человек, это вас не удивляет… А почему? Не потому ли, что вы и про меня слышали нечто подобное? Ведь слышали? Эта старая карга в Раквере наверняка вам об этом говорила, моя приятельница, госпожа Гертруде? Признайтесь, — что в Раквере я был ее лакеем, ведь так?!
Я не испытывал соблазна победоносно объявить о своей осведомленности, однако и не видел особой причины скрывать. И буркнул:
— Нечто подобное госпожа в самом деле будто бы…
— Вот видите. Я же знаю… — И вдруг: — Послушайте, Херман, а она говорила вам про книгу, где была ее болтовня про меня? Будто бы несколько лет назад ее собирались издать в Париже? Говорила?
— Говорила, господин граф. Госпожа очень тревожилась, что вы про это узнаете…
Старик хрипло засмеялся и тихо сказал:
— Знаете, Херберт, мы еще об этом поговорим. Когда выпадет тихая минута. Когда все они, кто делит мои поместья, будут обретаться подальше… А сейчас ступайте, я хочу отдохнуть…
В тот вечер, когда все домочадцы отправились на балы по поводу уходящего старого и наступающего нового года, которые из-за болезни хозяина на этот раз у нас не устраивались, он опять позвал меня к себе вниз.
Зеленый камердинер на цыпочках впустил меня в комнату больного. Перед его постелью поставили маленький письменный стол и стул. На столике были шандал со свечами, чернильница, перо, бумага и песок для просушки чернил.
Граф приподнялся на подушках, опираясь на левый локоть. Его красное лицо еще больше разрумянилось, а светлые глаза при свечах блестели. Доктор Крузе сказал, чтобы графу для восстановления сил давали одну-две рюмки мадеры в день. Сейчас казалось, что он выпил сразу порцию нескольких дней. Но, может быть, его лихорадило от раны. Он пылко заговорил:
— Герхард, этот мой дорогой шурин и остальные доктора — все они дуют в одну дудочку: я, мол, скоро поправлюсь и еще всех их переживу. Оплаченный вздор. Я чувствую, что времени у меня мало. И я принял решение. К чему, чтобы за границей обо мне писали всякие сенсации?! Если мы можем сделать это дело здесь куда доказательнее и пикантнее? К радости моих наследников и в память госпожи Гертруде?
— То есть… каким же образом, господин граф?
— Таким, что я сам расскажу, а вы запишите. Подлинную биографию обер-гофмаршала графа Сиверса.
Я сказал (ибо поручение казалось мне не только сложным, но и опасным):
— Господин граф, я думаю, если вы желаете там… ммм… написать и о вашем происхождении (я не сказал: если вы хотите там написать и о своих отношениях с императрицей Елизаветой и не знаю еще с кем…), то не повредите ли вы тем самым, скажем, молодому господину Карлу и мадемуазель Лидиньке? (Ибо я заметил, что к остальным он не испытывал привязанности.)
Граф сказал, словно бы еще сильнее скривив свой и без того уже перекошенный рот:
— Из Карла получится пьяница. Такой же, какими стали мои старшие сыновья. Разве вы этого еще не поняли? Я отослал его в армию. Потому что на цивильной службе он опустился бы еще быстрее. Если он наплевал на мои желания, то и я поступлю с ним так же. А Лидинька, знаете, Лидинька выше этого. Или, как бы сказать, она проходит мимо. Ей это безразлично. А если и не безразлично, то она предпочитает скорее правду, чем ложь. Так что садитесь за стол и приступайте. Нам нужно спешить. Вам придется писать как-нибудь сокращенно и знаками. Иначе не успеть. Потом, ночью, пока у вас еще все будет свежо в памяти, перепишете подробнее. Понимаете, Герхард? Постараемся справиться за четыре вечера. Сегодня, завтра. И в первые два вечера нового года. В это время нам не помешают домашние. Понимаете, хотя бы на смертном одре я хочу быть свободен…
И он стал рассказывать. Как все было на самом деле, о чем я в общих чертах знал. Рассказывал хаотично, но с некоторыми красноречивыми уточнениями:
— Рассказы о том, что я будто бы родился в Финляндии, в Питтисе или где-то еще, ерунда. То есть, возможно, у старого Иоахима в то смутное время и родился сын, которого звали так же, как меня. Этого я не знаю. Про меня стали это говорить по приказу Елизаветы. И Сиверсы по необходимости говорят до сих пор. И теперь конечно же все. И сам я тоже. До сегодняшнего вечера. На самом деле я был тридцатилетним камер-юнкером, когда в первый и последний раз был в Финляндии, чтобы взглянуть на захудалую мызу моего приемного отца… Но родился я в Каритса, и даже не знаю, в чьей избе, можно думать — в какой-нибудь бане. Потому что мой настоящий отец еще до моего рождения пропал на шведской войне, а возможно, и где-то в другом месте. Мать унесла чума — мне было лет пять. Или это была мачеха. Не знаю. От нее в памяти осталась только одна песня…
— Какая?
— Ну, слов я не помню. Помню только, что была одна песня… такая… ну ладно. Потом мы с сестрой Леэно жили У родственников. По очереди у разных. Видимо, все там же, в Каритса. Пока мне не удалось пробраться к ним в их блошиную деревню, как же она называется?
— В Раквере.
— Правильно, в Раквере. Мальчишка в постолах, страстно мечтавший о сапогах. Вот поэтому я и втерся к сапожнику Симсону мальчиком на побегушках. И сунул к нему Леэно в качестве служанки. Леэно так там и осталась. Пока сын сапожника к ней не посватался. А меня у Симсона подобрала госпожа Тизенхаузен. Однажды, когда его позвали на мызу снять у госпожи мерку с ноги, старик велел мне идти с ним… Вот и был готов лакей. Так что Oberhofmarschall Сиверс всем, всем, — он наклонился вперед на подушках и послушной ему рукой описал в воздухе нечто похожее на дугу, что все вместе, должно быть, означало реверанс, — всем обязан милостивой госпоже фон Тизенхаузен… за познание всех человеческих возможностей! Два года я оставался лакеем, пока муж моей госпожи не уехал, кажется, в Польшу. Через две недели я уже был у нее в постели. И не то чтобы я сам полез. Но когда мне дали понять, я, разумеется, не растерялся. И конечно же это было для меня нечто ослепительное. Венерой она, может, и не была. Но в ту пору Гертруде была хорошенькая, ненасытная тридцатипятилетняя женщина, окруженная роскошью своего сословия. Роскошью провинциальной. Но и такая казалась мне чудом. И в этом чуде я оставался полгода. Пока однажды утром госпожа не сказала мне: «Карл, возвращается господин Якоб. Я поеду встречать его в Таллин. И выеду еще сегодня, а завтра господин Бистрам поедет дальше в сторону Риги». Этот господин Бистрам из Куронии приходился ей племянником, он возвращался из Петербурга домой и на несколько дней останавливался у нас. И еще госпожа сказала: «Дай мне клятву, Карл, что, когда я вместе с господином вернусь, ты сохранишь наши отношения в тайне». Я сказал: «Клянусь блаженством своей души!» Она поцеловала меня и уехала. Вечером меня вызвал управляющий, приказал к утру сложить пожитки и ехать вместе с господином Бистрамом. За двадцать рублей госпожа продала меня господину Бистраму. Вы понимаете, Хейнрих? Лакей был продан! Oberhofmarschall и имперский граф был продан — за двадцать рублей! Женщиной, которая научила меня так с нею забавляться, что она стонала в моих руках от восторга, той самой женщиной… Знаете, Хейнрих, я до крови искусал себе правый кулак — у меня в то время были хорошие зубы, — но я сохранил способность думать. Я же выучил немецкий язык. Я умел писать. Я знал, где у госпожи лежит ее перстень-печатка. В ту самую ночь, тем самым перстнем-печаткой, след от которого стоял в моей продажной грамоте, я подделал для себя вольную. И в ту же ночь я ушел из Раквере. Спустя неделю в Петербурге, на кухне у великой княгини, я уже чистил репу. И я скажу, Дитрих, скажу, забегая вперед: и когда, уже будучи камер-юнкером, и гофмаршалом, и прочее, я накрутил эту вашу блошиную деревню, этот ваш город против госпожи Гертруде, то сделал это вовсе не из желания поддержать городских жителей в их борьбе против дворянства, а с самого начала это была всего-навсего месть до мозга костей оскорбленного парня. Только с годами, уже мужчиной, стариком, я придумал это для себя и придал этому отблеск сословной борьбы. Так что я скажу вам: в моей возне было так же мало героизма, как в сражениях этого Российского героя. Ибо для себя, для деревенского парня, он выиграл эти битвы не на той стороне. А я и вовсе никаких битв не выигрывал.