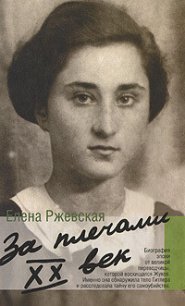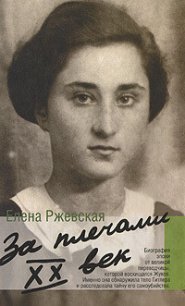Берлин, май 1945 - Ржевская Елена Моисеевна (читать книги бесплатно .TXT) 📗
Я иду через улицу под мерзким, нависающим гулом «фокке-вульфа» к дому с синими наличниками.
Голышко проснулся. Он в майке, сидит, держа на коленях гимнастерку, и пришивает чистый подворотничок. Лепехин тяжело сопит над вещевым мешком — отыскивает в своем запаснике что-то заветное. Подает капитану кусочек мыла. Голышко проверяет карты в планшете. На минуту садимся. Потом Голышко порывисто обнимается с майором Курашовым.
— Доброго здоровьица вам, товарищ капитан! — озабоченно говорит Лепехин.
— Ну, не пасуйте тут без меня! — нахально говорит Голышко.
И все довольны, вроде нахальство — надежный залог его возвращения. Такой парень все выдюжит. В случае чего его бронепоезд если не по рельсам, так целиной назад отойдет.
Накинув на одно плечо плащ-палатку, он идет по улице размашисто, твердо, не оборачиваясь на нас с Лепехиным.
Нам видны его сдвинутая косо фуражка и темноволосый затылок под околышем.
Вокруг нас хмуро и тихо — «фокке-вульф» улетел.
Голышко уже вышел за деревню, идет под зачастившим дождем и наверняка насвистывает. Он привык искушать свою судьбу.
Дождь сечет мелкий и частый. На всю бы ночь так.
Анна Прохоровна стоит на крыльце, ждет Петра Тихоновича.
— Все листики обмывает. Прямо как по заказу, — сообщает она мне.
Петр Тихонович явился поздно, вымокший до нитки: и веселый. Где, с кем набрался — дело темное.
Мы уже улеглись кто где. Я на лавках в красном углу, под закопченной божницей. С появлением Петра Тихоновича все пришло в движение. Хозяин веселый — постояльцам отрада.
— Поскачь, Тихоныч!
Он хлопает ладонью о колено, вроде бы собираясь плясать, но раздумывает.
— Вы мне тут всю танцплощадку завалили. Хвоста протянуть негде.
На топчане в углу смелее захныкал ребенок, и мать шикнула на него. Две бабы, из погорельцев, давно переругивавшиеся шепотом из-за мешков с зерном, что сгрудились так, что не поймешь, где чей, теперь без стеснения, громко продолжали свой спор.
Пьян, пьян, а их-то Петр Тихонович ядовито так поправил:
— Что, покусаются мешки? Межа нарушилась!
Тотчас заколыхалась на печи занавеска, высунулась Анна Прохоровна и нараспев:
— Глядите-ка! Забота его не съела.
Бабы подсмеиваются: после войны Петра Тихоновича, мол, должны произвести над ними в начальники — однорукий ведь, для работы не годится. А та, что кормила грудью ребенка, громко зевая, подзадоривала: если б он воевал, быть бы ему теперь уже майором или генералом каким-нибудь.
— Он бы воевал, — сказала с печи Анна Прохоровна, — только вот свое воевало потерял.
Петр Тихонович задул коптилку и полез на печь.
Спят люди. Темно и тихо, воздух в избе тяжелый — сырость амбарная и духота скученности и немытого тряпья.
Кто-то проснется, охнет, помянет бога, а прислушавшись к дождю, опять заснет, успокоенный.
Дождь хлещет. Раньше сказали бы: не ко времени — хлеб в поле не убран. Теперь же у него служба другая. Льет он — значит, людям выдалась спокойная ночь, не наведет «фокке-вульф» бомбардировщиков. Может быть, и бронепоезд в такой дождь сумеет отойти назад.
7
За обуглившимися деревьями, за землей, вспаханной снарядами, — Ржев. Вот он — рукой подать.
Только это когда-то такое было — город Ржев, летний сад над Волгой, духовой оркестр, цветные фонарики, памятник революционеру Грацинскому. Были театр, восемь техникумов, институт. Пахло печеным хлебом, антоновкой, человечьим жильем.
Да было ли такое? Десять месяцев город у немцев. Бессменная виселица возле Грацинского. Немцы вламываются в дома, рвут изо рта последний кусок. Голод. Люди едят толченые листья акации, варят суп из старых кожаных ремней. Где была столовая — немецкая комендатура, где склады заготзерно — лагерь военнопленных.
Страшно.
А спасение — рядом, вот оно, пробилось к окраинам. Идет бой. Сбрасывают на город бомбы, бьют снарядами: метят в немцев, отскакивает и в своих. Все перемешалось.
Ни жить, ни умереть — сгинуть.
До войны жившие здесь в деревнях люди ходили ежедневно на работу в город. Километра четыре всего.
Этот же путь наши войска шли месяцы в крестных муках.
Когда-то был Ржев. Теперь — укрепленный врагом пункт, «неприступная линия фюрера», плацдарм, с которого немцы еще раз намереваются двинуть на Москву.
От нашего переднего края до Ржева остались метры. Немец не сдаст, и мы не отступимся. Будет ли конец бою?
— Проводите Анциферову, — сказал мне майор Курашов. — У ручья подождите меня.
Анциферова стоит наготове с котомкой в руках. Мы вышли с ней на крыльцо. Смеркалось, тишина, розоватое поле заката.
Кто-то отделился от амбара. Немец Карл.
— Гуте нахт[ 30], фрейлейн! — тихо, по-домашнему сказал он, когда мы проходили мимо.
Кончилась деревня. Мы шли по кочковатому, невспаханному полю, поросшему травою. Выбрались на тропинку. Рукав моей гимнастерки терся о рукав Анциферовой, а туго набитый карман ее жакета задевал меня по боку. Мы шли степенно, безмолвно, упорно, как на богомолье.
Где-то сбоку от нас на дороге продвигалась, должно быть, артиллерийская часть — лязгали тягачи. Справа, над лесом в сизом неподвижном небе тревожно разорвалась немецкая ракета. Слева на светлом, подсвеченном розовыми бликами небосклоне зажглась звезда. В той стороне — тоже немцы. Над полем тек туман, похожий, на дымок от артиллерийского залпа.
Уже было топко под ногами и заметно свежо, остервенело квакали лягушки — мы спустились к ручью.
Заговорить сама я не решалась, и мне было тягостно, что Анциферова ни о чем не спросит, почему мы остановились, чего ждем. Я украдкой смотрела на ее белое лицо. Она, казалось, отрешена от прошлого и будущего, от своих детей и от немцев — какая-то бесплотная. Но когда на рассвете она пойдет с котомкой за плечами на немецкие пулеметы, выхватив из кармана жакета белый платок, — ей будет страшно, потому что тело ее из таких же несчастных молекул, как и мое.
«Кто такая? Почему перешла?» Она все выучила, как полагается разведчику, отрепетировала с майором Курашовым все вопросы и свои ответы. Игра, честное слово, захватывающая, оголтелая. И словно бы уговорились с партнерами соблюдать условия игры. И по этому, значит, уговору спасшуюся от преследования русских доставят к ее мужу. А дальше ей велено убедить своего мужа Антона Сергеевича Анциферова, ответственного работника Ржевской управы, искупить свою вину — известить наш штаб, какие улицы в городе заминировали немцы.
Подошел майор Курашов, потрогал сапогом переброшенные через ручей слеги.
— Пошли!
Анциферова встрепенулась, подала ему руку, чтоб он помог ей перейти через ручей, так женственно, так покорно, что я вдруг почувствовала: она погибнет.
За лесом у немцев вспыхивали, как зарницы, ракеты. Вода в ручье улавливала их свет. Странно. Эта же вода, попетляв тут у края поля, через сколько-то минут добредет к немцам.
Возле амбара на весах уже никого не было. Сменился часовой. В кухне мелькал свет — это дергался огонек коптилки. Лепехин проснулся и поставил на стол котелок с холодной кашей и кусок хлеба:
— Ужинайте, товарищ лейтенант! — Вытянул из-за голенища ложку, обтер ее тряпкой и протянул мне.
Пока я ела, он маялся, борясь с дремотой, поправлял фитиль коптилки, чесал спину, примащивал на кулаках большое пористое лицо и вдруг заговорил сипло:
— Сумела прийти — сумей и назад воротиться!
30
Доброй ночи (нем.).