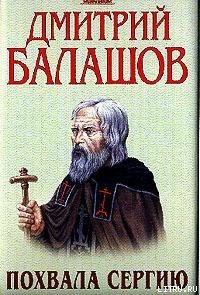Бальтазар Косса - Балашов Дмитрий Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT) 📗
XL
Все это так, и, положим, что именно так и было, но где перед нами отец церкви? Выдающийся политик? Покровитель гуманистов? Да где и выдающийся финансист, создавший разветвленную банковскую систему?
Что ж он, стихов, а паче того писем Петрарки не читал? Не знакомился с наследием флорентийских гениев, того же Данте и прочих, создавших славу своего города и утвердивших позднее флорентийский говор как литературный язык всей Италии? Что ж, в Латеране или старых (пусть старых!) залах Ватикана не устраивались иные оргии и иные пиры, более близкие к «Пиру» Платона? И не беседовали тогда, за изысканными явствами папского стола о живописи, зодчестве, о творениях Джованни Пизано и Джотто, об очередном послании Калуччо Салутати, бессменного канцлера Флорентийской республики?
Не представить ли себе за этим столом д’Альи, который, сплетая и расплетая тонкие долгие пальцы, вдохновенно повествует о движении светил, о неизбежных в юлианском календаре ошибках противу солнечного года, нарастающих с каждым столетием, о Манефоне, египетстких жрецах, о халдеях, о том, как Юлий Цезарь, устроив «Год конфуза», единым махом исправил Римский календарь. И Косса вдумчиво хмурит брови, забыв о серебряном, с позолотою, кубке багряного кьянти» и прикидывает, что — да! — разделавшись со схизмою, заставив отречься от престола упрямых соперников своих, ему надлежит вновь в первую голову заняться, помимо финансовых дел, реформой календаря.
И, попутно скажем мы, могло, очень могло получиться так, что григорианский календарь, которым с Петра Великого пользуемся и мы, появился бы на полтора столетия раньше под именем иоанновского. И вряд ли тогда кто-нибудь поминал о пиратском прошлом и недостойном поведении Бальтазара Коссы… Могло быть? Могло!
Тихая музыка. Стройный ансамбль лютни, цитры и виолы в согласном звучании овевает председящих. Слуги вносят все новые блюда. После «фрутти ди маре» и макарон является жареная макрель, запеченные на вертеле цесарки. И уже «разрушен» и унесен красавец-кабан, и уже, с новыми переменами вин, являются сыр, печенья и сласти, восточный рахат-лукум, орехи и пастила.
И гуманист Поджо Браччолини делает широкий жест — ибо разговор с церковных дел и календаря вновь соскользнул на литературу и поэзию, на творения нового светила, Джованни Боккаччо и его «Декамерон», — делает широкий жест, увлеченно сказывая о новых находках античных рукописей, о Тите Ливии и Лукреции, о чистоте латинского языка, который гуманисты чают восстановить в его первозданном древнем великолепии. Вспоминают Пикколо Никколи, которого и сам Косса посещал когда-то, удивляясь его собранию античных ваз.
Поджо, порядком-таки хвативший и итальянских и испанских вин, слишком широко размахивая руками, толкует о благородстве, как результате личных качеств и заслуг, и неясно тут, одобряет ли он Коссу или втайне критикует его, обрушиваясь на старую родовую аристократию.
Играет музыка. Появляются девушки в легких, просвечивающих струящихся платьях, танцуют перед гостями, прозрачно намекая на возможность более интимной близости.
Здесь присутствует и Леонардо Бруни (Аретино), уже давно занимающий должность секретаря папской курии, успевший под покровительством папы разбогатеть. Он говорит о важности воспитания, и духовного и физического, в сочетании с практическими штудиями:
— Ибо знания теоретические без знания действительности бесполезны и пусты, а знания действительности, как бы велики они ни были, если не украшены они блеском литературных сведений, будут казаться лишними и темными!
Бруни — горячий сторонник Флоренции и флорентийского государственного устройства. Он и тут, горячась, ставит его всем в пример, высказывая мысли своего будущего трактата «Похвала Флоренции».
Собеседники раз за разом взглядывают на греческого ученого Хризолора, в долгой серебряной бороде, у коего учились многие из них, внимательного и немногословного.
У него за спиной умирающая Византия, обветшавшие дворцы императоров, замолкший ипподром, обезлюженный город, из которого все живое перебралось через залив Золотой Рог в Галату, подчинившись безудержной генуэзской экспансии… Но за его спиною и труды Иоанна Златоустого, и Михаил Пселл, и великие каппадокийцы, и Палама, и Малала, и Вриенний, и Анна Комнина. За его спиною — чудо Святой Софии, непревзойденное доднесь, и тени великих эллинов: Ксенофонта и Геродота, отца истории, Эсхила и Еврипида, и божественный Гомер, и эти слова, доныне бросающие в дрожь:
Он сам чувствует себя иногда эдаким Приамом перед этой шумной толпою потомков великого Рима. Он опять приехал их учить, передавать, спасая от забвения, опыт великого прошлого угасшей Византии и незабвенной Греции, где родились труды Гиппократа и Пифагора, Эвклида и Эпикура, Платона и Аристотеля, драмы Софокла и бессмертная лирика Сафо…
Невозможно спасти народ, уставший жить, но возможно сохранить культуру, передав ее немеркнущий огонек в другие, юные руки. Культура — это всегда накопление. И подвиг ученого, и его, Хризолора, подвиг — не дать угаснуть свече, передать ее им, сюда. Тот дар, который уже не в подъем его измельчавшим землякам… А итальянцев токмо надобно научить читать по-гречески! Прочтя в подлиннике Софокла, Фукидита или Василия Великого, они их уже не забудут!
Новый папа, кажется, культурнее прочих, и с ним приятно иметь дело, а эти юные мужи симпатичны своей пылкостью и прямотой. Да кто-то из них даже и учился у него!
Поджо горячится. Он будет сделан папским секретарем и примет участие в Констанцском соборе, с которого он отправится путешествовать по Германии, попутно разыскивая античные рукописи в монастырях. Он опишет целебные купанья в Бадене, созревших, в цвете красоты, девушек, купающихся за низкой перегородкой рядом с мужчинами, опишет, как они поют и танцуют, и не воспоминаниями ли о приемах у Коссы вдохновлялись эти его письма из-за Альп?
И тот же Поджо не побоится, в следующем письме, описать с живейшим сочувствием к осужденному, казнь Иеронима Пражского, коего Поджо сравнит с героями-мучениками древнего Рима.
Звучит музыка, танцуют юные девушки в легких прозрачных одеяниях, словно бы сошедшие с будущих картин еще только родившегося Боттичелли, зазывно поглядывая на гостей, и с каким вниманием, с какою любовью слушает наш Бальтазар, «пират и насильник», ученые речи и споры своих гостей! Насколько тактичен и вежлив! Тут он, прежде всего, правовед и теолог, выученик болонского университета, получивший две докторские степени. А прочее — несостоявшийся союз с анжуйцем, угроза неаполитанского вторжения, борьба за Рим и в Риме — там, за стенами Латерана, и отодвинуто посторонь, как и женщины, как и любовь.
Назавтра Бальтазар, сидя у себя за рабочим столом, вызывает Дитриха фон Нима.
— Необходимо назначить пенсии гуманистам вот до этому списку. Суммы у меня проставлены!
— Ваше святейшество! — фон Ним говорит, не подымая глаз. — Вы обещали выдать по восемь тысяч флоринов кардиналам…
— Кардиналы получили достаточно. Я истратил на них столько, что мне впору самому теперь собирать милостыню! — возражает Косса тихо, но грозно, и взглядывает на секретаря так, что фон Ним весь сжимается, понимая, что может воспоследовать, ежели он прибавит еще хотя бы слово в осуждение папских трат. И как он ненавидит в сей миг этого пирата, выскочку, обольстителя, как прямо жаждет его погубить, но как? И чем? Уйти с работы секретаря при папском дворе Дитрих фон Ним не может себе позволить, это значило бы погибнуть с голоду. Ему, Дитриху, никто не вручит пенсии, чтобы он мог просто жить и собирать рукописи да заниматься болтовней, как они все, подрывая самые основы церковной организации!
Папа — покровитель гуманистов! Покровитель безбожников! Да он и сам безбожник, воплощение дьявола, сам дьявол!