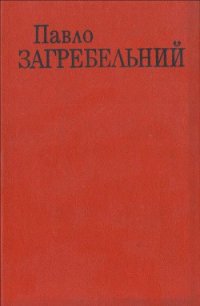Евпраксия - Загребельный Павел Архипович (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Чуть ли не бегом одолела в темноте первые каменные ступеньки. Но в первом же, освещенном сквозь узкие прорези в стенах, помещении вместо дикости и запустения ее ожидало достойное дворца убранство; вдобавок ко всему незамутненно засверкали навстречу ей глаза верной Вильтруд.
– Как? И ты? – прошептала Евпраксия девушке, а та бросилась к императрице и склонилась в обычном своем поклоне, обычном – будто ничего не произошло, будто все так и должно было быть!
– Ваше величество, я проведу вас. Ваши покои наверху. Там для вас все, все. И аббат Бодо ожидает вас там.
Ах, аббат ожидает. Он тоже тут. Все предусмотрено и приготовлено заботливо, старательно, с холодным сердцем. Никто не защитил ее, все согласились, что так и должно было быть. Ну, Вильтруд, понятно. Но аббат?
За ним церковь, бог. Разве бог хочет того же, что Генрих?
Теперь не оставалось ей ничего. Выше! Выше! Выше!
Чуть ли не бегом преодолевала Евпраксия бесконечные каменные ступеньки. Вильтруд не успевала за императрицей. Выше! К самым облакам! К небу!
Упала, когда уже не было никаких сил. Пустота в теле. Умерло все. И она умерла для всего.
Не слыхала, как бормотал молитву аббат Бодо, как раздевала ее, укладывая в постель, Вильтруд. Не видела слез. Ни своих, ни той девушки, которая добровольно давала себя заковать в камень вместе со своей императрицей.
Снова, как при рождении ее ребенка, сотряслись все недра земные и раскалывалось небо, обрушивались горы, клокотали дикие воды, и продолжалось все это долго – неделю, месяц, год. Разве она могла знать, сколько это продолжалось?.. Когда встала на ноги, удивилась: башня привычна, заключение привычно, тесны границы ее мира, но душа не рвалась на волю, воспринимала все как данное, должное. Когда же успела привыкнуть?
И как такое могло с ней случиться? Не во время ли забытья-лихорадки нажужжал ей в уши аббат Бодо о необходимости покорности, и она бессознательно приняла, восприняла в себя его поучения? Блаженны убогие духом. Блажен, кто не жаждет, блажен, кто не бунтует. Блаженны покорные духом. Неужто она так легко поддалась уговорам? Неужто настолько состарилась душой, что уже не жаждет воли! Еще ведь совсем недавно жаждала воли – для себя, себе, не задумываясь, есть ли вообще воля на свете. Аббат Бодо бормотал все про одно – что человек если и должен жаждать, то лишь бога душою своею, да и Куррадо говорил ей о боге, о боге, об одном только боге, а она слушала их и не слышала, потому что для нее бог – это свобода, раскованность, безбрежность желаний и жизни. Так было для нее. Не терпела насилия, чужда покорности, далека от обязанностей – и вот теперь должно ей приспособиться ко всему этому сразу, вместе, и кто-то помогает ей, уложил в постель, убаюкал душу.
Равнодушие завладело Евпраксией. Не слушала уговоров доброй Вильтруд спуститься с высокой башни и прогуляться у парапета; там по вечерам пахло цветами с грядок, что сохранились под голыми мрачно-понурыми стенами замка и после того ночного надругательства, когда искали собаку; чьи-то заботливые руки снова ухаживали за цветами, поливали, прибирали грядки. Но не могла же она ходить между своей башней и той, где засели охранники!
Догадывалась, что Генрих не доверил ее охрану италийцам, в них слишком много сердечности и доброты. Нет, он посадил там своих красномордых кнехтов, тупых, упрямых, от рождения убежденных, что самое главное для человека – здоровье, а не разум. Навидалась их вдоволь, больше не желала их видеть, не хотела позориться, выказывать перед ними свое положение пленницы. Нет! Будет сидеть тут, в башне, до скончания века и не подумает никуда пойти!
– Я тоже буду с вами, ваше величество, – говорила Вильтруд.
– Ты можешь выходить на свободу, и ты должна это делать.
– Но как я оставлю вас хотя бы на минуту? И как посмею дышать свободой, когда вы лишены ее?
– Тебя не должно мучить это свое превосходство надо мной. Всегда кто-то кого-то в чем-то превосходит. Воспринимай все, что есть, как то, чему надлежит быть. Так ведь делает аббат Бодо. Он свободно ходит и туда и сюда, пробует утешать меня в моей неволе, потом оставляет меня наедине с неволей, для себя выбирая свободу. Заметила ль ты в нем боль и страданье от необходимости этих вынужденных перемен?
– Он всегда одинаковый.
– Будь и ты такой.
– Разве можно спокойно наблюдать, как страдаете вы, ваше величество!
– Кто сказал тебе, что я страдаю?
– А эта башня? Такая страшная, тесная, гнетущая.
– Женщинам суждено терпеть. Все нужно преодолеть. Коли башня – пусть будет башня.
– Я унесла из дворца все ваши императорские украшения, ваше величество. Это поможет вам.
Евпраксия погладила ее светлые волосы. Кто мог бы сказать, что тут поможет?
Пока лежала в лихорадке, знать не знала, что происходило в долине, теперь же хоть и отказывалась, даже чуточку, расширить свой суженный до предела мир, а все-таки из окон высоченного прибежища посматривала. И видела, хорошо видела Холм Сан-Пьетро весь целиком, и Адидже с римским мостом, охраняемым с той стороны темной каменной башней, и веронский старый собор за рекою, церкви, дома, каменный лес башен над городом.
Генрих проводил все свое время в пышных забавах: узнал, быть может, про выздоровление Евпраксии и теперь, зная, что неотрывно будет следить она из своего заточения за жизнью на свободе, нарочно устраивал день за днем всякие празднества – будто за ними-то и прибыл в Италию, в Верону. То затевались моления в соборе, и длинную дорогу между собором и замком – тысяча семьсот шагов – заслоняли от зноя белыми полотняными покрывалами, на стенах домов развешивали гирлянды цветов, ковры, люд принуждали встречать императора приветственными возгласами, пением псалмов, поклонами. То вся Верона бурлила на площадях, в играх да карнавалах, Генрих велел открывать ворота замка и все двери дворца; толпа именитых горожан с веселым гоготом докатывалась дворцовыми переходами до самой императорской опочивальни, где, растянувшись на златотканом покрывале двуспального ложа, укутанный в белые фамильные франконские горностаи, с обнаженным мечом в одной руке и жезлом в другой возлежал повелитель державы,император Генрих IV. Возлежал бодрствующий, но неподвижно-закостенело, один на широком ложе, как и в безграничном своем государстве один. А где же повелительница, императрица? – недоумевали и кое-что подозревали горожане.
Была еще и такая забава: меж нагими мрачно-понурыми стенами замка вершили казни, рубили непокорным головы, натыкали их на длинные колы и выставляли колы на солнце. Кого запугивали? Веронцев или ту, что сидела в каменной башне и в отчаянии смотрела на происходящее на земле?
Пышные выезды на ловы, приемы послов, турниры. Кони, стяги, лютни, крики. Все под башней, все нарочито дразнит Евпраксию. Может, от нестерпимого-то отчаянья не выдержит и бросится из окна вниз?
Не бросалась.
В бездну бросается лишь тот, кто боится бездны. А она теперь ничего не боялась. Если жизнь и научила ее чему-нибудь, так тому, чтоб не бояться. Чего бояться траве, или ветру, или цветку? Они существуют, несмотря ни на что.
Евпраксию оторвали от земли, вырвали из тесноты людской, из мира увлеченных страстями людей, ее бросили в пустоту, в которой не было опоры, в пустоту, где смертными играют тучи и ветер. Но оторванные и вырванные, – разве ж оторваны и вырваны?
Привыкнув к новому положению, Евпраксия уносилась мыслями и чувствами туда, где зеленела трава, шумели леса, падали росы, журчала вода. С высоты своего заключения упорно стремилась разгадать язык растущей травы и тем возвращала себе утраченную непосредственность существования, пусть даже совершенно невыносимого, как у нее ныне, но существования. С башни мир был увиден отчетливей, он оказался намного шире и красочнее, чем если б видеть его, стоя у подножья; дни были заполнены солнцем и всемогуществом зелени, которая пробивалась повсюду сквозь и самые крепкие камни, зеленовато-солнечный свет для Евпраксии не исчезал и ночью, лишь обретал иные оттенки, становился плотнее, насыщеннее, в пространстве воцарялась таинственность шорохов, шелестов, дыханий, соединений, зачатий, рождений, криков, стонов, вздохов и молчания. Наступало, царствование лунного сияния, оно все уравнивало, приостанавливало любое движение, все загоняло в тревожный сон. Тогда сквозь мохнатость теней в серебристо-резном свете доносились до Евпраксии теплые вскрики трав, материнское дыхание теплых туманов, от которых хотелось плакать детскими беспричинными слезами.