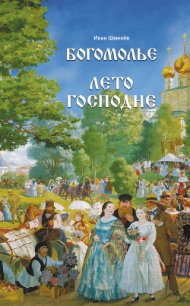Иностранец - Шмелев Иван Сергеевич (читать книги онлайн .txt) 📗
Иностранец не оглянулся, только скучно махнул два раза — да, да… Пти Жако молча поклонился и отступил неслышно, на-цыпочках. В раздумьи, спускался с лестницы, мысленно видел спину и скучный взгляд, и было как-то не по себе, как бывает от странных снов. На тревожный вопрос жены он сказал без особого подъема:
— Остается. И сода-виски. Жюстин?..
Жюстин неожиданно уехал.
В комнате небогатого отеля Ирина Хатунцева — Таня Снежко, по ресторану, — солистка русского хора Боярского, писала письмо мужу. Его портрет, в веночке из васильков, давно увядших, стоял перед ней на камушке. Камушек этот — даже не камушек, а комок затвердевшей глины — был для нее священным — символом родины. Она схватила его в последнюю минуту на станции «Таганаш», перед Джанкоем, при отступлении, когда обстреливали последний поезд, и она втаскивала в вагон залитого кровью добровольца, ловившего померкшими губами и просившего жутким хрипом — «дышать… дайте…» Раненый отошел на ее руках, залив ее платье кровью. А она все держала его руку на этом комочке глины и спрашивала гремевший поезд: «а Виктор?.. где-же Виктор?..» Теперь Виктор был с ней, недалеко, в санатории, и давний портрет его, в выцветшей форме добровольца, на этом кусочке родины, залитом русской кровью, вызывал ласковые слезы. Она писала:
…сентября 192… Биарриц ……….
……. ему я верю, это хороший диагност и большое сердце. Он сам много выстрадал и не может лгать. Если С. говорит, что ты скоро поправишься, то так и будет. Твой пессимизм — это просто нервы, ужасное твое шоферство их совершенно размотало. 22-го, годовщина нашей свадьбы, — подумай, уже пять лет! — я непременно вырвусь к тебе. Помнишь, какой это был светлый день, и какая ужасная тревога. Симферополь, пустая церковь, наши калеки-шафера, и в тот же вечер — фронт, разлука… Ночи в лазаретах, вечная тревога, слухи эти, угасающие глаза, одинаковые у всех, такие чистые, юные, святые! Каждую минуту ждала я страшного, но Господь сохранил тебя, и мы теперь неразлучно вместе. Сердце у тебя хорошее, а это, милый, перемести-лась пуля, это рентг. сним. ясно дает, нажала на какой-то сосуд, отсюда и кровоизлияние. Такой случай был у одного фр. офицера, я знаю точно. Надо бросить шоферство, сядем на ферму и будем у себя. Нечего и думать о Париже, Бог с ним. Четыре тыс. отложено, и я за посл. месяц напела почти три, сезон горячий, недавно один голландец пожертвовал 300 фр., нашла в букете… шикуют иногда. Побольше бы… И я сделалась жаднюхой, но это чтобы ты был покоен. Петь и м, в таком угаре… папа бы что сказал! Петь о нашем, это мы только можем чувствовать. А для них никакой разницы: и т а м , и мы — одно и то же — «Решен». В этой ужасной атмосфере у меня кружится голова, и вспомнишь вдруг тот запах кровавых тряпок, ран…, а они ничего не знают, что такое страдать, терять… только — ан-кор, ан-кор!.. Это льстит мне, но только вспомнишь… И тут же наши, все потеряли, все отдали… и вот, увеселяют. Бывают минуты, мне схватывает горло, не могу петь, и тогда вызываю твое лицо, глаза, и только тебе пою, ты для меня все родное. Милый, единственный… зачем я тебе пишу все это? Но, знаешь, все-таки я не совсем права, даже и в нашей яме есть светлые точки, хоть и редко. Один молод. америк. Чарли ужасно привязался к нашим казакам и зовет к себе на кауч. плантации, только петь! Что-то и в нем разбудили наши песни, м. б. открывают узкой его душе какое-то раздолье, какую-то вольную свободу, кот. они забыли. Это уж атавизм, а у нас живое. Мы для них какие-то странные, чужие, и будто близкие. Это придает мне силы. Редко это, но и одним праведником спасется град. И еще швед один, старик, кот. жил в России. Играли балалайки, и наш запевала Тиша — помнишь, пулеметчик, курский, который у мучника служил? — начал коронное свое «Ходит ветер у ворот», и когда балалайки пустили «ветер», бешеные эти переборы и «молодую красотку», неуловимую и для ветра, что только со шведом сделалось! Вскочил, замахал, затопал и стал кричать, по-русски, — «русски ветер, шведски ветер, коледни, горячи, мой!..» Если бы все так чувствовали, все бы по-другому было. Ах, милый… нет, мир еще не совсем опустел, это от нервов у тебя такое горькое. Как хорошо сказал о. Касьян… помнишь, был у нас старичок-монах из Почаева, заходил в августе?
Сколько я написала, уже пять страничек, а не сказала самого главного. Совсем я писательница стала, а ты не смейся на мои ошибки, я все перезабыла, где надо ять, совсем я обезграмотилась. А в институте первой всегда была по-русски, стихи даже на акт готовила.
Опять сбилась… да, про о. Касьяна. Это был как раз тот день, катал ты меня по всему Кот-д'Аржан, кутили мы с тобой. Как ты сумасшедствовал, и как я была счастлива, ты со мной, мой. Я только что обновила чудесное платье, самую последнюю модель, шик такой! Как сон волшебный. Ты знаешь, я вовсе не такая «пустопляска», но тогда… И ты, ведь, тогда безумствовал, как мальчик. Я в папу, какой уж был серьезный, а любил одеться, всегда был элегантный. Это от него.
Ты все это знаешь, но как приятно вспоминать, так у нас мало светлого. Почему-то я была на пляже, довольно рано. И вот, какая-то милая американочка-чудачка узнала меня на пляже, кинулась ко мне… — Ах, я знаю, вы Танья… Снэ-шко! ах, не могу забыть, как вы вчера «играли»!.. вы так волшебно пели про какой-то «звон»… Это она про это… про «Вечерний звон». У нас в программах дан перевод всех песен, довольно глупый, но все равно, что-то они улавливают все-таки. — «Ах, вы душка, я вас отметила, особенная вы, какая нежная, будто из лучшего фарфора»… Так, буквально, — «из лучшего фарфора»! — «Я, прямо, брежу… влюблена в вас!..» Стала обнимать и целовать, чуть не задушила, потащила с собой в роскошную машину… Что она мне болтала только… все у ней перепутано, но очень-очень милая. И герои мы, русские, и большевики нас непременно должны впустить в Россию, и она сама напишет непременно президенту, скажет мужу, муж у ней сенатор и скоро будет президентом… а у брата сколько-то газет, и она его заставит все написать, чтобы все знали, какие у нас песни, и мы непременно должны «со всеми вашими казаками» приехать к ней в Бостон, у ней приемы, и вся Америка узнает. И вдруг привезла меня в сюкюрсаль парижского большого дома, от-кутюр, к Па-ту!.. Как сон чудесный. — «Нет, нет, я так хочу… это мне радость, что-нибудь для вас, самый пустячок, на память…» И приказала — «все модели»! Уж и досталось манекеншам. Долго выбирала, требовала все — «нет, нет .. . воздушней, мадам шатэнка… что-нибудь светлей!» Наконец, манекенша сумела «показать», русская наша оказалась, с тонким вкусом, юная совсем, княжна, прелестное дитя. Остановились на розоватом, бальном, «весеннем», — вышито зеленью, и чуть — фиалки! И чтобы я тут же и надела. Выбросила пять т. фр.! Я оцепенела, прямо. Потом купили шляпу, этот «ореол», как ты сказал, огромную, до плеч… безумие! Шляпка… полторы тысячи! Дюжину шелк, чулок, три пары туфель… и Ира стала Золушка-принцесса. Полюбова-лась мной, просила ей писать, и укатила, чуть не опоздала на трэнбле. И ты увидал меня, такую, у казино на пляже, проезжал случайно. Ах, милый, не забуду, какое было у тебя лицо, когда ты крикнул — Ри-на! И смутился, уж я ли это. Как ты на меня смотрел… уж не забуду. Как я тебя люблю, какая нежная у тебя душа… Ты мне сказал, как рыцарь, — «мадам?..» И мы помчали. Где только не побывали мы тогда! В Осгоре устрицами угощал, в «Палэ дез-Юитр»… завтракали после в розовом отеле, где «сосны-великаны». Нет, это на другой день мы были, все кутили. Ты был в ударе, стал декламировать из Пушкина — «Вновь я посетил… Три сосны стоят, одна пооддаль, а другие…» Нет… да, «две другие друг к другу близко… они все те же». Опять напутала, кажется, ну, все равно. Хотелось плакать, все всколыхнулось… Розовый отель на берегу, «Пти Пэн»… и ро-зовое платье. А ты, в рабочем балахоне, в масле… так чудесно было. Буду до конца дней помнить эти «Пти Пэн»… Как мы помолодели, как ты чудесно щурился, все хотел вспомнить, вызвать дачу в Павловске, что-то тебе похожее казалось. Воздух был жаркий, пряный, смолисто-горький, пить хотелось. И ты велел дать… шампанского! Помнишь, как та хозяйка, смешная усатая старуха, нас «сверлила»! Мы были сумасшедшие, влюбленные. Всегда влюбленные… ведь, правда, да? Это все радость сделала, мы обновились… подумай, такой пустяк! Ели чудесное жиго, омара, салат из «петушков»… и та старуха все сверлила своими щелками, «коринки в масле»! Не забуду. И выжила нас из перголя под «сосны». Вежливо, правда… — «ах, мсье-мадам… тут извините, занято…» Но это раньше, еще до завтрака. Помнишь, как англичанки щелкали зубищами на мое платье? Правда, оно немножко их… «эпатэ». Как они по-гусиному на нас смотрели! Такая «элегантная», и вдруг… со своим шофером, тэт-а-тэт! Так голо, так вульгарно нагло! А как они позеленели, вдруг мы заговорили по-английски! а «шофер» стал декламировать из … Шелли! И как тот старый англичанин, чопорный такой, совсем как лорд у бедняков из Диккенса, вдруг захлопал и сказал по-русски: «да это наши, русские!» И оказалось, ниакой не лорд, а милый, благодушный старикан, бывший беговой наездник, знаменитый в Москве когда-то Кинтон. Папиных лошадей тренировал. Все-таки искорка осталась.