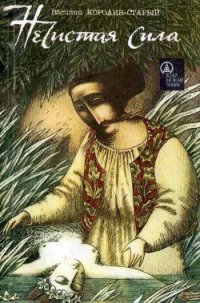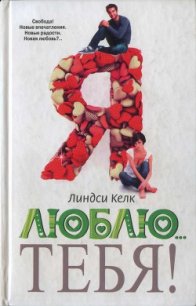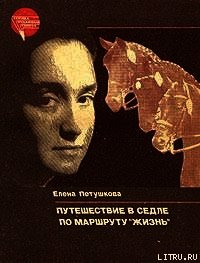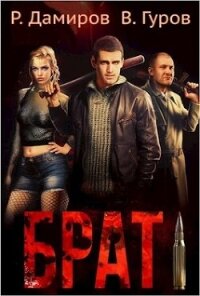Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич (читаем книги онлайн .txt, .fb2) 📗
Взобравшись на очередной гребень, остановился, несколько раз вздохнул — выбивал воздух из легких с болезненным хрипом, тяжело, морщась от стеснения в груди и боли, потом попробовал сориентироваться: надо было понять, сколько светлого времени у него имеется и вообще, где находится солнце?
Солнце стояло еще высоко, значит, время у него есть… Калмыков двинулся дальше.
Медвежонок стонал, тыкался розовой от крови мордой Куреневу в шею, сопел от боли и страха, скулил, иногда замирал, делаясь неподвижным. Похоже, он, как и человек, терял сознание, потом приходил в себя и вновь начинал стонать. У Куренева от этих жалобных стонов все переворачивалось внутри.
Недалеко от станицы, в распадке, он заметил рыжее пятно, на несколько секунд вытаявшее из серой шевелящейся чащи и тут же утонувшее в ней.
Это был козел, направлявшийся на солонцы.
Следом мелькнуло еще одно пятно, более светлое, такое же живое, потом еще одно — козел вел за собой на солонцы стадо. Куренев подкинул на плече медвежонка, уложил его поудобнее, подошел поближе к солонцам и, когда в серой зелени мелькнуло очередное рыжеватое пятно, выстрелил.
Стрелял он, не целясь. Молодой козленок, в которого попала пуля, взвизгнул надорванно, будто ребенок, и взвился высоко над кустами. За первым прыжком совершил второй. После второго прыжка козленок уже не поднялся, дернулся пару раз и затих. Куренев удовлетворенно засмеялся и вновь подкинул медвежонка на плече.
В следующее мгновение озабоченно сморщился: этим точным выстрелом он усложнил себе жизнь. Теперь надо будет рвать жилы и тащить не только медвежонка, но и козелка. Но не стрелять тоже было нельзя: козелок — это шкура, шурпа и запеченное на угольях мясо. Подъесаул, когда вернется, будет очень рад: нежную, пахнущую горелым дымком козлятину он очень любил.
Осознание того, что Калмыков будет доволен, словно бы прибавило сил Грине Куреневу: он отстегнул от пояса веревку, захлестнул ею небольшие, но острые рога козелка, сделал помочь и, кряхтя, потащил добычу по тайге. Вместе с медвежонком.
Калмыков рассчитывал, что до темноты он догонит китайцев, но одно дело — рассчитывать, предполагать, думать и совершенно другое — сложные реалии жизни, управляющие человеком. Всегда что-нибудь происходит, и это условие — обязательно: то одно мешает, то второе, то третье, то вообще что-нибудь совершенно неожиданное напластовывается. Никак от этого не уйти. Подъесаул уже ощущал физически, ноздрями своими чувствовал, что китайцы находятся совсем рядом, рукой до них достать можно, пара бросков — и они будут задержаны, но времени для этих двух бросков не хватило.
На тайгу опустилась ночь — тяжелая, черная, с тревожными вскриками зверей, прохладная и душная одновременно. Ничего не видно в такой ночи, совершенно ничегошеньки. Темнота стояла кромешная, расшибить в ней лоб о какое-нибудь столетнее дерево ничего не стоило. Калмыков этого опасался.
Если же он покалечится в тайге, но на помощь ему вряд ли кто придет — его просто не найдут в непролазных дебрях. Найти человека в них сложнее, чем иголку в скирде сена.
Поняв, что дальше идти опасно, Калмыков болезненно сморщился, словно бы на зуб ему попал шальной, случайно закатившийся в рот кремень, остановился, медленно опустился на гладкий, поросший шелковистым волосцом пень, — надо было отдышаться.
Несколько минут он сидел неподвижно, опустив руки; тяжесть медленно, будто вода, стекала в пальцы, скапливалась в копчиках, падала горохом на землю, пробивала усталым ознобом все его тело, потом вскинулся, обвел взглядом темное пространство.
Ничего не было видно. Калмыков с досадой сплюнул — хотел сплюнуть себе под ноги, но передумал и послал плевок в воздух, ловко впечатал его в черную плотную стену, потом протестующе помотал головой.
Против чего он протестовал? Этого Калмыков не знал и сам. Просто настроение у него было паршивое: тело ныло от усталости, от бесполезной погони, от борьбы с дебрями; руки у него тряслись, сделались чужими, отяжелели; пальцы, словно бы налившись металлом, отвердели, не гнулись; в висках застыл звон. Мертво застыл, не вытряхнуть…
Калмыков зашевелился и неожиданно подогнал себя хриплым вскриком, словно бы плеткой хлестанул:
— Хватит сидеть! Будет!
Зашевелился, пошарил пальцами вокруг себя, нашел несколько сбитых белками с сухого дерева сучков, сложил их горкой, пошарил еще — надо было ладить костер, чтобы окончательно не утонуть в этой гнетущей темноте. Набрав еще немного горючего крошева, Калмыков достал из кармана форменных, украшенных широкими желтыми лампасами штанов плоскую деревянную гребенку, отломил от нее один зубец и шаркнул им по серной дорожке, проложенной с двух сторон по низу гребенки.
На конце зубца вспыхнул слабый рыжий огонь — это были русские спички, не китайские; китайские особым качеством не отличались, а русские, выпускаемые под Владивостоком, на Гродековской фабрике, были что надо: и горели хорошо, и зажигались легко, и не ломались. Калмыков сунул огонек под небольшую горку сухотья — крохотный проворный гимнаст перепрыгнул на один сучок, затрещавший, словно порох, зашипевший, зафыркавший, затем, будто бы спасаясь от некой напасти, нырнул вниз. Калмыков подумал невольно: придется зажигать еще одну спичку, но в это время малюсенький рыжий гимнаст объявился вновь, вскаракабкался на вершину горки и расцвел ярко, отодвинув в сторону опасную предночную темноту.
Жаль, у Калмыкова не было с собой еды — вышел он из станицы налегке, надеясь скоро вернуться, у Грини Куреневаеды тоже, скорее всего, не было, да даже если бы и была, проку от этого все равно никакого — еда-то ушла вместе с ним. Сидит сейчас Куренев уже дома, наверное, и распаренный, красный, потный, с наслаждением гоняет чай, сдабривает ужин ханкой и вяленым изюбренным мясом, а Калмыков кукует неведомо где, голодный, усталый, злой…
— Тьфу! — сплюнул он в огонь, ругая себя за оплошность.
А ведь он мог поправить это дело днем, во время погони — ему и жирный орляк по пути попадался, и сочная съедобная кислушка, и ягод полно было, и грибы встречались — рыжики, белянки, даже огромный, похожий на важного начальника шелковистый белый попался, но Калмыков не остановился, пронесся мимо… Жаль! Очень даже был бы сейчас к месту сочный шашлычок из толстого белого гриба, нежного и душистого — м-м-м! Калмыков ощутил, как во рту у него собралась тягучая твердая слюна.
Некоторое время он сидел неподвижно, с тупым усталым недоумением глядя в огонь, ни о чем не думая, — впрочем, нет, кое-какие мысли все же шевелились в голове: он подумал о том, что человек может смотреть на любой огонь вечно, пока пламя будет гореть, столько он и станет неотрывно смотреть в него, и эта странная привязанность с годами усиливается… Так казалось подъесаулу, — ведь он тоже был таким. К чему это? К тому, что ему суждено погибнуть в огне или к чему-то другому?
Вопрос, конечно, тревожный, но он особо не занимал Калмыкова. О своей жизни он вообще никогда не задумывался, не пытался изменить ее, улучшить, повернуть в выгодную для себя сторону, довольствовался тем, что она ему подносила. Если выпадали горькие минуты, когда он терял близких людей, — не роптал, не проклинал никого, не грозился взорвать мир, заложив под него вагон динамита, если же случались удачи, победы, в том числе и на «бабском» фронте, особо не радовался, принимал это как должное…
Над головой пронеслась большая тяжелая птица, нырнула в густоту крон и уселась там на ветку — ночной хищнице тоже захотелось посмотреть на весело плясавшее пламя, проворно, с пороховым треском сжиравшее сухие ветки. Калмыков глянул в темноту недобро и, старчески хрустя костями, стеная, поднялся — надо было еще набрать веток.
Птица, прячась в высоких кронах, недобро ухнула — людей она не любила, но Калмыков не обратил на хищницу внимания — ухает и пусть себе ухает. Если нужно будет, он любой птице свернет голову набок. Какой-то пушистый, с длинным рыльцем зверек сверкнул глазами, зажато тявкнул, подпрыгнул, будто от укуса, и стремительно откатился в сторону, в кусты, исчез в них. Будто и не было зверька.