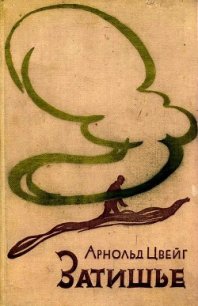Возвращение в Дамаск - Цвейг Арнольд (читаем книги онлайн .txt, .fb2) 📗
Наконец-то подул прохладный ветер; можно подняться на крышу и, пользуясь случаем, отправить друга из Иерусалима. Де Вриндт был и европеец, и человек Востока, человек смелой мысли и логичных действий, очень одинокий, без союзников, действующий согласно своим убеждениям, не страшащийся вызвать ненависть. Во времена, когда популярность ценилась выше глотка воды или купания, это мужество инакомыслия было примечательно. Правда, тогда ни под каким видом нельзя обнаруживать слабости; противники, которых ты довел до белого каления тем, что не находил их достойными внимания, — такие противники неумолимо наносили удар. Ведь в нынешние времена всемирного оглупления люди вообще видели лишь партийные цвета и очень удивлялись, что под черной либо красной рубашкой или под полосатым бело-черным молитвенным покрывалом текла живая кровь, которая порой изливалась фонтаном. Де Вриндту только и недоставало навлечь на себя гордыню оскорбленной чести семьи!
Де Вриндт вернулся, потирая руки.
— Воздух пришел в движение, Эрмин, можно устроить сквозняк. Нет, на крышу мы пока не пойдем, солнце так палит, что мигом нас погубит. Я частенько спрашивал себя, не стоит ли нам по примеру бедуинов носить толстые черные шерстяные рубахи. По их словам, так тело сохраняет прохладу. Но я не могу себя заставить.
Эрмин встал и помог поставить кресла напротив распахнутых дверей и закрепить створки окон; теперь, когда они открыли и молитвенное окно, как Эрмин называл его про себя, ветерок продувал все три комнаты. Всякий раз англичанина завораживал вид из этого высокого, похожего на башню помещения: Дамасские ворота с их выступающими справа и слева укреплениями и красивыми зубцами, длинная высокая стена, опоясывающая Старый город и тянущаяся вправо и влево, как во времена тамплиеров и султана Салах-ад-Дина; расположившиеся в тени стен верблюды, мимо которых быстро и дерзко мчались автомобили, непрерывно гудя клаксонами. Дымка над огромным городом, множество четырехгранных башен, высокие церковные купола в этом углу, размытая красота Купола Скалы и Аль-Аксы — да, человека, однажды застрявшего в Иерусалиме, трудно отсюда вывести.
— Только посмотрите — какой чудесный вид! Разве он не восхищает вас каждый день по-новому?
Эрмин, осторожно подбирая слова, согласился с радостным возгласом писателя. Да, насколько он может судить, с этой панорамой Иерусалима мало что сравнится.
— В самом деле, — сказал де Вриндт, — в Иерусалиме много красот, много достойного почтения, даже величественного. Однако дом Аллаха на вершине горы Мориа — едва ли не самое величественное, разумеется за исключением трех вещей: для вас, христиан, это церковь Гроба Господня, для нас, евреев, — Западная стена, а для солдат — памятная плита Десятого легиона под входными сводами одного из домов у Яффских ворот, установленная после резни семидесятого года.
Эрмин рассмеялся, потому что при этих словах де Вриндт слегка подтолкнул его локтем в бок.
— Гора Мориа, — задумчиво проговорил он, — она и вправду существует. Каждый день забываешь об этом и узнаешь вновь. Значит, там ваш отец, де Вриндт, едва не принес вас в жертву, прежде чем заколол вместо вас другого агнца?
— Он был суровым критиком, — серьезно возразил де Вриндт.
Подобные намеки свидетельствуют об уровне доверительности. Однажды поздним вечером, за бутылочкой крепкого ришонского вина, де Вриндт открыл ему толику своих фантазий: что нередко он чувствует себя так, будто ему несколько тысяч лет и что в начале своих воплощений он был Ицхаком (или Исааком), сыном патриарха Авраама, отмеченным страшной печатью судьбы и обреченным смерти от ножа. Иногда Эрмин намекал на это, сегодня — с умыслом.
— Люблю арабов… возможно, потому лишь, что они воздвигли над городом этот дом Божий. Хотя нет, — поправил он себя, — я люблю их как людей. Они такие простые — цельные в симпатии, цельные в отвращении. Их смех прекрасен, и их однозвучные песни, и смиренность, и печаль, и безрассудство — всё. Помните, как погиб патер Франциск Шмид, великий археолог, раскопавший Кфар-Нахум, или Капернаум, как его называют христиане? Лунной ночью он ехал из своего монастыря у Генисаретского озера в Иерусалим. Араб-шофер пел от блаженства, хлопал в ладоши, выпуская из рук руль, а патер спал на заднем сиденье. И неподалеку от Иерусалима случилось неизбежное: машина не вписалась в поворот и угодила в канаву, врезалась в склон, перевернулась — двое погибших. Но Абдиль, или Мустафа, или как его там звали, — его песня еще смеялась в ушах Азраила, ангела смерти, который караулит у дорог и, точно смоквы, срывает созревших живых.
Ха, подумал Эрмин, подействовало!
— Разумеется, не стоит говорить человеку, что выглядит он не лучшим образом, — начал он, снова в гостиной, руки в карманы, усевшись верхом на спинку дивана, — но, между нами, взрослыми, говоря, по-моему, доктор Глускинос прав. Вам действительно не мешало бы провести ближайшие недели в горах. Где-нибудь подальше на севере, де Вриндт, в Сирии, или в окрестностях Бейрута, где возле гор Ливана одна деревня краше другой, или хотя бы в Цфате, который ваши люди намерены превратить в климатический курорт. Здесь упомянутый Азраил может вскоре проверить степень вашей зрелости.
Де Вриндт с удивлением смотрел в открытое, загорелое лицо гостя.
— С каких пор вы вздумали убрать меня из Иерусалима? Возможно, отдых был бы приятным, хотя я лишен способности загорать так, как вы, у меня только прибавляется веснушек на лице и даже на руках. — Он с улыбкой взглянул на свои маленькие руки, испещренные желтыми пятнышками. — В горы? Недурно. Вероятно, я бы любовался водопадом, ходил на прогулки и понемножку работал. Стоило бы, пожалуй, наконец-то принять вызов и изложить по-голландски, что происходит здесь ныне или происходило в прошлом. Литература в Европе выглядит сейчас интереснее, чем перед войной, большие темы и менее дилетантские эксперименты над формой. Они там убирают развалины, под которыми похоронили войну, чтобы не вспоминать о ней все время. Неплохая затея — раскрыть все оставленные войной пробоины нашей цивилизации, борьбу меж желаемым и существующим, пропасть меж фасадом и реальностью, там, здесь, повсюду. Что вы скажете по поводу усиления юдофобства в Центральной Европе? Собственно говоря, лихая штука, верно? Потрясающий комплимент евреям. А Советская Россия? Их пятилетний план, большой, разумный и такой же хрупкий, как все, что не учитывает неожиданных поворотов жизни?
— Так я и знал, что тамошнее юдофобство однажды бросится вам в голову. В Европе вправду оказывают вам слишком много чести, демонизируют вас, выставляют этаким драконом, болотным Гренделем, о котором повествует «Песнь о Беовульфе».
Де Вриндт довольно покачал головой:
— Не так уж плохо, мистер Т. П. Вы не смеете признаться себе, что с четырнадцатого года ваша каста господ шаг за шагом вела вас не туда, и быстро попадаетесь на уловку, которая вместо ваших принцев, фабрикантов и банкиров подсовывает евреев, не говоря уж о политиках. Этот прием опробовали еще в девятьсот шестом, после Русско-японской войны. Ничего не изменилось.
— А как вы объясните, что на эту удочку попадаются такие просвещенные народы, как немцы? И почему означенные хитрецы используют для отвлечения именно вас? И почему эта игра действует и добралась даже сюда? Ведь у нас на руках доказательства, что арабские националисты работают с переводом нелепых «Протоколов сионских мудрецов» [18] так, будто они берут начало не в восьмидесятых годах. Семитский антисемитизм, как вы его объясните?
— Сударь мой, — ответил де Вриндт, — с тех пор как я вник в существо вопроса, сей парадокс мне безразличнее отцветшего мака. С чем бы эти люди ни работали — они всего лишь маленькая группировка и когда-нибудь получат свой урок. При всей ее ловкости она не смогла бы затеять вообще ничего такого, если бы в каждом носителе мундира не дремала глубинная ненависть к нам — почему? Потому что со времен Бар-Кохбы мы защищаемся лишь призывом к Господу и правам человека. А это попросту упраздняет всю сферу носителей мундиров, так? Нет их, нет, и все. Помните двадцать четвертое сентября минувшего года?