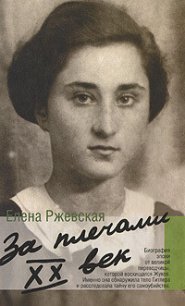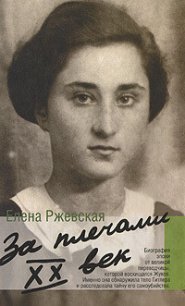Берлин, май 1945 - Ржевская Елена Моисеевна (читать книги бесплатно .TXT) 📗
— Ах ты господи, — кряхтела она, ворочаясь на постели. — Разор какой!
Тут в избе стоял гомон и чад, как обычно, когда заседало правление. И даже больше обычного — время шло к севу.
Как ни занята была старуха своим, ей в уши понемногу просачивались голоса, и внятнее других — тихий голос председателя:
— На лошадей надежды нет. Дошли. За хвост подымать надо. Так что решение как раз подоспело.
И все о решении каком-то. А голоса то глохнут, то опять внятно сочатся. И угрюмо так:
— …В упряжке походит, молока что с нее возьмешь.
— Да уж молока убавит. Тут что-нибудь одно…
— Огласить надо б, разобраться…
От тяжелой догадки у старухи холодок в горло подскочил и перекинулся в ноги.
Стихло в горнице. Слышно — шелестят бумаги. Председатель прокашлялся, снял нагар с фитиля — огня добавилось, — читает:
— «…Немедленно… к обучению крупного рогатого скота, какой имеется… и в личном пользовании колхозников… как тягло в весеннем севе… Хомут разрезается в верхней части и здесь же засупонивается… Нормы выработки на коровах… в районной газете „Сталинский путь“…
И закончил твердо:
— «В случае… отвечает председатель по законам военного времени».
— На одну сознательность твою, значит, не располагают.
— Выходит, так.
— Тут, мать ее за ногу, надо ее железную иметь… Больше старуха не слышала ничего — провалилась, как в темный колодец, в свои тяжелые думы.
Когда очнулась, речь шла уже о другом. О сборе подарков Красной Армии к празднику Первого мая. Решили испечь булки и высушить на сухари. Молоко пропустить сепаратором, на сливках замесить тесто. На том и разошлись.
День, другой потянулись в неизвестности. На третий наконец разговор начался. Что нового да как, бабуся, сами себя чувствуете? Это счетоводка Муся через всю горницу. И председатель выжидательно обернулся в ее сторону — брови насуплены.
Старуха, до того сидевшая на кровати, поднялась, запахивая на груди кофту, и от волнения чуть ли не с поклоном: как видите, кряхчу помаленьку.
Муся проворно поближе сунулась:
— Мы к вам привыкли, бабуся. Как своя вы…
— Чужая собака на селе… — неохотно размыкая губы, отвечала старуха.
— Ну уж, бабуся. К чему вы… Наш колхоз вас как родную… Мы к вам всей душой…
Ласкова — все кишки повытеребит. Подъезжай, подъезжай. Что дале?
И председатель неторопливо пододвинулся.
— А что не так, во внимание надобно взять — время военное.
Еще что-то сказать имел, но застряло — прокашлялся. А Муся за него:
— Пахать не на чем. Лошади совсем оголодали. Сами знаете…
Гляди, даже в свою книгу забыла лазить — наизусть лупит.
Председатель кончил прокашливаться.
— С тягловой силой плохо обстоит. Какой-то выход нужен. И решение есть.
Старуха — губы поджаты — не подпускает. Начеку.
— У вашего конюха руки вися отболтались — лошади и колеют. За коров принимаетесь.
Молчат — не понравилось. У председателя по всему лицу — задумчивость, — приготовился к ответу перед властью по закону военного времени.
— Вам даже выгода, — рассудил он. — Вам трудодни пойдут. Как вы сами нетрудоспособная, так за вас коровка…
Медведь ты, медведь, не укусывала тебя своя вошь.
А солнышко уже лучи мечет. Старухе с крыльца видно: земля клубится — преет. Скоро пахать.
Потом подул холодный ветер — река, должно быть, вскрылась.
Так и есть — лед ломался, трещало на всю округу. Пошел!
Шурка не отлучалась с берега. Ее бил озноб от жути, от непонятного ей самой веселья. Это она, Шурка коноплястая, поставлена сюда на пост. Ей видно далеко вокруг: никто пока не тонет. Мимо идут и идут красноармейцы, тянут переправочные средства, поглядывают на Шурку.
Переправу наведут, тогда, говорят, жди немецких самолетов. Все в кашу смешают. А Шурке не страшно. Вот ведь и мать в реке погибла — в полынью провалилась. И когда еще было — давно, в мирные годы. А Шурке в свою смерть не верится.
В деревне каждую весну бегали на реку смотреть: если лед глыбами встает — к урожаю. И сейчас он горбатился — хороший знак Шурке… И правда, война ее подбросила так высоко, что из этой выси прежняя жизнь с бабушкой казалась ей глухой и серой.
Под крутым берегом, где раньше был перевоз, спешка — разбирают сваи… Старый перевозчик пропал куда-то без вести. Его баба в овчинном тулупе шурует вместо него и сосет трубку.
Шел лед. Солнце подхлестывало серо-голубые валы, и они куда-то все ехали и плюхались между берегов.
Когда река очистилась и Шурку сменили с поста, она отправилась в дальнюю деревню.
Василисы не было. Ее увели со двора, должно быть в конюшню.
Счетоводка щелкала костяшками, как в прежние разы. Слова на бумаге, прикрепленной к стене, еще больше укоротились… А бабушка лежала, не двигалась, худая и скучная.
Шурке точно хомут шею надавил, хочется вздохнуть поглубже и — никак. Она вертела головой, озиралась. Заскучала по своей будке и красноармейцам.
Старуха коснулась ее колена белой, неживой рукой, и Шурке стало страшно, не выдержала — всхлипнула. Наскоро про себя помолилась. Она была «мобилизованной» и не своей волей отделена от бабушкиной немочи.
Постояла в ногах постели, утерлась рукавом телогрейки и поклонилась.
С тех пор как увели Василису, старуха почти не вставала. Но была беспокойна, копошилась на постели, искала что-то под изголовьем, а то шарила по воздуху, тут ли мешки.
— Смерть чует — капризничает, — кому-то объясняла Муся.
Насчет смерти старуха сама чувствовала: притиснулась она к ее жизни — блошка не проскочит. И старалась, когда не донимало беспокойство, лежать смирно, готовиться. Но грехов своих она не помнила и, лежа так подолгу, прислушивалась: скрипят жернова в сенях, что-то опять там мелют.
О своих сынах она ничего не знала, живы ли они. Если подадут о себе весть, так и та не дойдет, — не станет почта разыскивать Егоровну по чужим деревням.
Она хорошо не могла припомнить, рожала ли их на самом деле. Знала, что у нее должно быть четверо сынов, если враг не побил их. Из всей прожитой жизни яснее всего вставал перед глазами синий лен, как в то раннее утро, когда совсем еще маленькой девчонкой увязалась за матерью в поле. До чего же синий был! Кажется, никогда потом таким не был… Мал-малышок в сыру землю зашел, синю шапку нашел… Кто ж такой? Отгадай…
С помощью Муси-счетоводки старуха приплелась на крыльцо — хотелось на божий свет еще раз взглянуть. Солнце стояло уже высоко. В той стороне, где деревня Егоровны, ухало беспрестанно. А небо почти что белое, тучки не спеша гоняются друг за дружкой. Глаза подымешь — слепит, и не хочешь — зажмуришься. На солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь.
Председатель — зимняя солдатская шапка в руке — встал уважительно неподалеку от кровати Егоровны, спрашивал, слышно ли что о сынах.
— Особого ничего, — отвечала старуха. Знала: это только так — председателева присказка. Что-то там впереди еще.
Он и не стал медлить, сообщил: договорился с ее золовкой, та согласна взять ее к себе, если Егоровна отпишет ей половину своего имущества.
Старуха с минуту помолчала. Она и сама понимала: не в подходящем месте поселили ее. Люди сюда по делам идут, и она тут в придачу лежит. Красиво ли это? Она стеснялась того, чтоб час последний застиг ее тут в правлении. Раз уж нельзя в своей избе, так хотелось бы в укромном углу где-нибудь. И условия золовкины ей показались справедливыми и отчасти были по душе ей: не повиснет она неоплатной обузой на чьих-то плечах. Она согласилась.