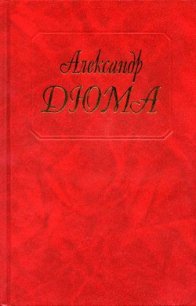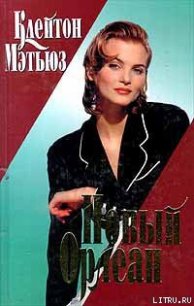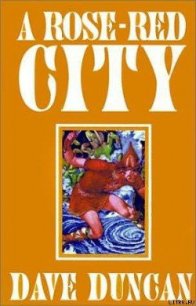Морские нищие (Роман) - Феличе Арт. (полные книги .TXT) 📗
Патер Габриэль осторожно прислонил шлем к придорожному камню, и тот остался лежать, как беспомощная отрубленная голова на чужой земле.
Они пошли дальше.
— Я хочу вас спросить, — начал Генрих, — не знаете ли вы, где мой дядя Рудольф ван Гааль и его слуга — знакомый вам Микэль? Я не знаю о них ничего.
Патер Габриэль очнулся от задумчивости и сочувственно посмотрел на Генриха.
— Судьба проповедника гоняла меня эти годы из страны в страну. Я видел много новых людей, встречался со старыми друзьями, но ни разу не столкнулся ни с вашим дядей ван Гаалем, ни со стариком Микэлем. Вы уже второй спрашиваете меня о них.
— Кто же еще говорил о них?..
— В Гарлеме. Член тамошней кальвинистской консистории Якоб.
— Бруммель, музыкант!
И Генрих рассказал всю историю своего бегства с Рустамом из Испании, встречу с Иоганном и его просьбу повидать семью гарлемского маэстро.
— Но Гарлем не лежал у меня на пути. А заходить в него отняло бы слишком много лишних дней.
— Так вот как оборвалась жизнь в приветливом домике садовника Алькалы! — вздохнул патер. — Я хорошо помню их всех.
Генрих опустил голову и промолчал.
Вечерело. Тучи спустились к самой земле. Стал накрапывать мелкий, холодный дождь. Куртка Генриха была плохой защитой от сырости. Патер Габриэль начал искать подходящего ночлега.
— Вон что-то чернеет там, вправо… — вгляделся он в туманную сетку дождя. — Как будто шалаш пастуха. Пойдемте, попробуем дождаться в нем утра.
Это оказался действительно полуразвалившийся шалаш, давно брошенный пастухами, как все в этой когда-то оживленной человеческим трудом равнине.
Темная, холодная ночь камнем лежала над Брабантом. В щели шалаша дуло. Сучья разведенного костра едва тлели. Неясные тени скользили по стенам, по соломе, устилавшей земляной пол. Генриху не спалось. Мысли сковывала тоска, тело — холод. Будущее было туманно, как ночь. Прошлое медленно всплывало год за годом…
Голос патера Габриэля нарушил тишину:
— До вас не дошла еще весть о судьбе наследника испанского престола доне Карлосе?
— Его арестовали… — печально отозвался Генрих.
— Да, и он умер.
Генрих приподнялся на соломе.
— Король отдал его в руки инквизиции, — добавил патер Габриэль.
— Он умер… своею смертью? — спросил Генрих шепотом.
— Не знаю. Эта тайна погребена в стенах Ватикана, в бумагах Пия Пятого. Говорят, король Филипп пишет правду только папам. Во всяком случае, смерть была неожиданная и быстрая.
Порыв ветра рванул верхушку шалаша и с унылым свистом понесся дальше. Патер Габриэль подбросил в костер остаток хвороста и снова лег. Генрих молчал, охватив колени.
— Не жалейте инфанта, — услышал он из темноты. — Печальный конец прекратил его страдания и избавил владения испанской короны еще от одного тирана.
Утро настало туманное, влажное, но на востоке бледнозолотистая полоса зари сулила погожий день.
Генрих, забывшийся наконец сном, не заметил, как патер Габриэль вскипятил воду в своем дорожном котелке и приготовил еду. Увидев его бодрое, обветренное непогодой лицо, ясные, умные глаза в ореоле светлых волос и спокойную улыбку, Генрих вскочил и начал торопливо стряхивать с себя солому, приставшую к высохшей за ночь одежде.
— Так вот и вся жизнь, мой друг, — говорил почти весело патер: — заря сменяет мрак. И мы еще увидим ее — зарю правды на земле!..
Генрих пожал ему с благодарностью руку.
— И вот что я надумал, пока вы спали, — продолжал патер. — Наши пути должны сейчас разойтись. Каждый пойдет своей дорогой к прекрасной заре освобождения. Вы — в Дилленбург, к Оранскому. Я — во Францию. Но у меня есть к вам просьба. — Он вынул из сумы туго набитый кошелек и протянул Генриху. — Передайте принцу. Это от братьев-протестантов на защиту правого дела. Они рассеяны бурей человеческой злобы, но крепко спаяны верой в победу.
Генрих спрятал дар протестантов поглубже в дорожный мешок.
Солнце еще не вставало, когда они распрощались на перекрестке дорог.
Голубой пеликан
В богатом дилленбургском замке было холодно и неуютно. Единственная отапливаемая комната на половине Вильгельма Оранского служила ему и спальней и приемной. Принц сидел, погруженный в чтение последних писем из Провинций.
Павел Буис из Лейдена посылал ему очередное сообщение о положении Нидерландов. Через него была организована условная переписка со всеми районами страны. Оранский назывался в этих письмах «Мартином Виллензооном», Альба — «мастером Паульсом ван Альбласом», английская королева — «Генрихом Филипзооном».
Буис писал, что суда, имевшие каперские свидетельства [40] (от принца Конде) [41], загнали в английские порты несколько купеческих судов, шедших из Испании с деньгами для армии Альбы. Командиры судов попросили защиты у английской королевы. Но Елизавета Тюдор защитила их по-своему: она просто взяла деньги себе. Альба пришел в ярость. Он послал в Англию чрезвычайных послов. Но королева не приняла их. Она заявила, что герцог слишком самонадеян, если посылает к коронованной особе своих представителей, как будто он — сам государь.
«Можете себе представить бешенство мастера Паульса, когда его щелкнули так по носу? — писал Буис. — Теперь, конечно, не может быть и речи о дружбе с Генрихом Филипзооном. Нам это было бы только на руку, если бы не дальнейшие события…»
Буис сообщал дальше, что Альба издал приказ, предписывающий арестовывать всех англичан на нидерландской территории с конфискацией имущества. Елизавета ответила такими же мерами против нидерландцев в Англии.
«Пока Генрих Филипзоон и мастер Паульс, — читал Оранский, — обмениваются пощечинами, истыми страдальцами остаются наши друзья. Между жерновом алчности и жерновом спеси размалываются их последние зерна».
Оранский спешно набросал письмо в Англию к одному из своих людей. Он надеялся, что сможет использовать благоприятный момент вражды правителей, чтобы уговорить протестантку Елизавету помочь делу Нидерландов.
Из Утрехта сообщали подробности казни богатой старухи ван Димен. Ее обвиняли в том, что полтора года назад в ее доме, хотя и без ведома хозяйки, провел ночь реформатский проповедник.
Имущество казненной было конфисковано, как обычно, в пользу короля.
И, наконец, последний удар по благосостоянию страны — десятинный налог. Брюссельские друзья писали, что эта новая мера коснулась каждого очага. В собрании штатов, лицемерно созванных Альбой, все как один человек утверждали, что десятинный налог уничтожит совершенно торговлю и мануфактуру в стране. Один и тот же предмет, говорили штаты, может быть перепродан в неделю десять раз. Таким образом, с этого предмета будет взиматься налог сто на сто в одну неделю. Многие товары, кроме того, состоят из нескольких различных предметов торговли, — соразмерно с этим увеличится и сумма платежа за такой товар.
— Чем хуже, тем лучше… — шептал Оранский. — Человеческая природа нередко уступает в делах совести, но в делах материальных возмущение станет решительным и общим.
Оранскому описывали также праздник, устроенный Альбой по возвращении его в Брюссель. По приказанию победителя весь город должен был ликовать. Народ заставили веселиться, петь хвалебные песни и бросать цветы по дороге того, кто вернулся покрытый кровью его защитников. Дома, где не высохли еще слезы по казненным, должны были украситься гирляндами и коврами. Погребальный звон, оглашавший ежедневно улицы, приказано было заменить праздничным перезвоном. На площади, где беспрерывно работали палачи, состоялся пышный турнир.
Описали ему и воздвигнутую Альбой бронзовую статую из пушек, отнятых при Жеммингене у Людвига Нассауского. Надпись на ней гласила: «Фердинанду Альваресу де Толедо, герцогу Альбе, правителю в Нидерландах в царствование Филиппа II, за погашение мятежа, наказание бунта, восстановление религии, утверждение правосудия, основание мира, самому верному посланному короля, воздвигнут этот памятник».