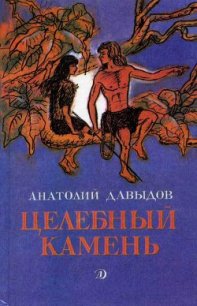Камень и боль - Шульц Карел (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
– Если Лоренцо был язычник, – крикнул дядя Франческо, – так Пьер в сто раз больше язычник. А насчет правительственных способностей… Знаешь, какого о них мнения Синьория? Не знаешь, так я тебе скажу! Как раз нынче Синьория обратилась, через своих особых посланных, к Савонароле с просьбой разработать для Флоренции новый основной закон.
– Не может быть… – воскликнул иссиня-бледный Лодовико.
– Почему не может быть? – торжествуя, возразил дядя Франческо. – Это правда. Разве ты не знаешь, что Пьер хочет быть тираном, не знаешь, что он хочет при помощи насилия отнять последнюю свободу у города и забрать всю власть в свои руки? А какая у нас защита от него? Савонарола! А Медичи потеряют последнее, что имели. И к такому человеку ты посылаешь своего сына!
Лодовико ошеломлен, – удар слишком неожиданный. Не хватало только, чтобы великому и славному городу, более могущественному, чем Рим, писал законы доминиканский монах. Да это просто смешно. Что они все – рехнулись, ошалели?.. И тут дядя Франческо выкрикнул фразу, звучащую как призыв, как боевой приказ, который слышен теперь на всех улицах города:
– Иисус Христос – царь Флоренции!
А братья встали и нараспев, как стих церковного песнопенья, восторженно подхватили:
– Мария – ее царица.
– Аминь, – набожно прошептала монна Лукреция, услыхав имя матери божьей и не поняв, о чем спор.
Лодовико Буонарроти не знает, что сказать. Ничего не может понять в том, что творится вокруг, бывший член Коллегии Буономини, которому принадлежит теперь место у ворот, приносящее восемь золотых доходу. Останется ли это место за ним, после того как Флоренция получит монашеский закон? Ведь в Евангелии мытари выступают всегда носителями зла, – не упразднит ли Савонарола мытарей? Но, с другой стороны, – мытарем был Закхей, а Христос трапезовал у него, мытарем был раньше и святой евангелист Матфей, – нет, не упразднит мытарей Савонарола! Лодовико опустил голову с видом человека до крайности утомленного. Нет больше на свете правителей… монахи диктуют свою волю государствам, и славная, могучая Флорентийская республика просит чернеца дать ей закон и порядок, нет больше правителей, удивительно устроен мир! "У тебя слишком скромные желанья, Лодовико", сказал тогда печально правитель. И хорошо, что у меня скромные желанья, Савонарола не упразднит мытарей. А у Пьера желания нескромные, он хочет быть тираном, и против него восстают народ и Савонарола. С Медичи покончено. Ихние желания были нескромные.
А дядя Франческо все гремит. Папский Рим осужден на погибель, ибо злодеяния Иннокентия вопиют к небу. Так сохраним, по крайней мере, Флоренцию, а потом создадим новый мир, новую землю, покорную единому богу! Микеланджело сидел, повесив голову, прижав руки к груди с такой силой, что даже было больно. Он пойдет, непременно пойдет, вернется к Медичи. На радостях он забыл, что произошло после смерти Лоренцо. В доме воцарились новые нравы, Пьер всегда строго следит за тем, чтоб не допускать малейшей близости с людьми низкого происхождения. И не хочет иметь ни художников, ни философов, а только придворных, и это по душе жене его Альфонсине Орсини, матери – Клариссе Орсини, римским княжнам. Давно миновали те времена, когда Лоренцо Маньифико гулял в садах с мессером Поджо и мессером Никколо Никколи, разбирая на основе Пятой книги Аристотелевой "Политики" вопрос о благородстве: что определяет место человека – ценность его или происхождение, – и Лоренцо отстаивал слово eugenia, означающее "благородство", а Никколо доказывал, что дворянин только тот, кто хлопочет об общем благе, – это nobilis, что значит "превосходный". И Лоренцо склонился потом к точке зрения своих друзей, перестал признавать благородство просто по рождению… Давно миновали те времена, Пьеру никогда не пришло бы в голову беседовать о том, применимо ли к нему только понятие eugenia или также и nobilis, он никогда не читал Аристотеля, и единственная книга, которая его интересует, это сочинение мессера Морпурго "О женских проделках". Впрочем, сейчас здесь в моде испанцы, а испанским гидальго никогда бы в голову не пришло вести такие речи, гранды разговаривают о благородстве мечом, а не спором с философами. Другие нравы воцарились в доме Медичи, и ушли все художники, Платоновская академия нашла приют во дворце Ручеллаи, только Полициано остался… Ушел и Микеланджело… а теперь Пьер послал за ним своего дворянина, зовет обратно. Он вернется, вернется! Жизнь утонченная, благородная, всюду красота, благоухающие сады, умные речи, мне семнадцать лет, я пойду! И буду работать, опять много работать, творить среди великих сокровищ искусства, окруженный любовью Джулио и Джулиано Медичи, работать, не встречая обид, презрения и ненависти. И всегда найду там возможность создать распятие для Сан-Спирито и заодно изучать анатомию. Мне привалило счастье. И жизнь передо мной – богатая, плодотворная. Научусь и придворным манерам, буду слушаться Пьера, буду ему служить. Разве придворные нравы окажутся для меня тяжелее вот этой жизни, полной обид от братьев-менял, ненависти дяди, который теперь громко и гневно повторяет сегодняшнюю послеполуденную проповедь Савонаролы, брызгая вокруг словами, как слюной? Там у меня будут друзья, работа. Там никто не будет надо мной смеяться, наоборот, там будут ждать от меня новых и новых, все более прекрасных произведений… Микеланджело встал. Решено. Он глубоко и блаженно вздохнул, будто избавившись от великой тяжести… Но в тот же миг в голове его мелькнула мысль, властно заставившая его опять сесть на лавку. Все рухнуло. Нет, никогда больше не вернется он к Медичи. И, снова сжав руки, он застонал.
Материнская рука. Вперив взгляд в догорающий уголь очага, он не заметил, что монна Лукреция тихонько подсела к нему и ласково погладила его по волосам.
– Ну как, сынок? – прошептала она. – Что решил?
Наклонившись, он приник головой к ее плечу, потому что это был удобный отдых и к тому же так можно было не глядеть ей в глаза, а она не видела его.
– Не пойду никуда, мамочка… – нежно шепнул он в ответ.
Она промолчала. Рука ее соскользнула с его волос ему на руку и остановилась там, слегка дрожа. И в молчании ее было такое изумленье, что он прибавил:
– Здесь Граначчи… я вспомнил о нем, и – все решилось. Мы с ним клялись друг другу, да если б и не клялись, пора мне отблагодарить за его тогдашний поступок. Я сделаю, что он сделал тогда. Я могу сказать Пьеру то, что Граначчи сказал Лоренцо: "У меня есть друг, и я не пойду без него". Но Пьер – другой человек. Граначчи слишком горд и никогда не будет служить, Пьер это знает и никогда не позовет Граначчи к своему двору. И все решено. Я не могу идти без него, а он никогда не будет позван. Так что остаюсь у вас.
Сказав это, он как будто только тут ощутил всю тяжесть своего решения. Духота вокруг сгустилась так, что у него отнялось дыханье. С очага поднялся пепел и покрыл его от головы до ног. Изрезанный грубый стол с засохшими пятнами еды, обшарпанная жесткая лавка, узкие окна, пропускающие лишь слабый свет, потолок провис, и стропила его полны червей, гусениц, насекомых. Пауки все ткут вечные свои сети, много уже накопили, а все ткут, все густо завесили паутиной, – он будет пробираться к своему будущему, облепленный их волокнами. На что ни глянешь, к чему ни притронешься, всюду следы ненависти. Ни один угол ему не принадлежит. И миску, из которой он прежде ел, после его ухода сейчас же отдали собакам. Все вещи насмехаются над ним. Ничего нет здесь милого, душевного, все – отчуждение и насмешка, ненависть, все здесь дышит дядей Франческо. Микеланджело останется здесь. Это решено. Он опустил руки. Монна Лукреция прижала его горящую щеку к своей. Он услыхал, что она тихо плачет.
Дядя Франческо резко повернулся к ним.
– Если он не слушает слов Священного писания, это не удивительно. Но тебе следовало бы прислушаться!
– Микеланджело не пойдет к Медичи, – ответила она.