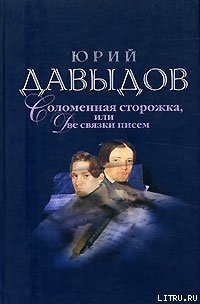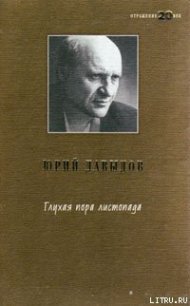Март - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
Игнатий Гриневицкий не спал.
Позавчера были Желябов с Перовской, Рысаков. Еще раз все примерили. И вот уже нет Андрея. Голос его гудел в этой комнате: действовать в ближайшее воскресенье, ждать нельзя. Нет больше Андрея, нет… Софья сказала: в воскресенье действовать, действовать непременно. У нее был ломкий голос. И, когда она говорила, на лице ее вдруг появилось что-то желябовское, и даже губы, когда она умолкла, сложились, как у него: напряженно и властно.
«Заутра казнь…» Игнатий отложил папиросу и начал писать.
Александр II должен умереть… Мне или кому другому придется нанести страшный последний удар, который гулко разнесется по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, – это покажет недалекое будущее. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его убийцы. Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением монархическим, неограниченным, а мы – деспотизмом. Что будет дальше? Много ли еще жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина or своих сынов для своего освобождения?
Ветер швырнул пригоршню сухого снега. И опять тихо. На Симбирской улице тихо, на Выборгской стороне тихо, во всем Петербурге тихо.
Я боюсь… меня пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, а еще больше – последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека и которая зальет кровью поля и нивы нашей родины, так как – увы! – история покалывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни одного часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто на свете требовать не может.
Он не перечитывал написанного. Запечатал конверт. Все. Теперь спать. Он разделся, сложил брюки по складке, набросил пиджак на вешалку и критически осмотрел сапоги, предмет вечных огорчений. Табак саднил язык. Гриневецкий выпил воды. Постоял босиком, о чем-то вспоминая, но так и не вспомнил. Он лег и опять стал курить… Брат явился утром, в назначенное время, и они вдвоем пили чай. Иван, растерянно улыбаясь, рассказывал, что у него неприятности с бригадным командиром. Ходят какие-то слухи об его, вольноопределяющегося Гриневицкого, шаткой благонадежности. И вот, понимаешь ли, учинил генерал давеча словесную экзекуцию. Чертовски неприятно!
– Не беда, – усмехнулся Игнатий. – Всякий порядочный человек в наше милое время не вполне благонадежен. А посему не унывай, а гордись.
Иван пробормотал:
– Ну да, тебе легко говорить.
Грипевицкий рассмеялся: Ванюшка-то надул губы совсем как в мальчишестве.
– Верно, мне говорить легко… Пей, да идем. Есть дело в городе.
– А чего зазвал спозаранку?
– Пей, скажу.
Сказал, когда уж собрались выходить.
– Вот. Держи. – Он протянул брату конверт. – Схорони у себя. Прочтешь завтра. Впрочем… Впрочем, можешь и нынче вечером. Мне хочется, мне очень нужно, чтобы это сохранилось.
Сказано было обыденно, но Иван затревожился:
– Что такое? Что тут?
Гриневицкий опять рассмеялся:
– После узнаешь. Побереги, сделай одолжение. – Он помолчал, взял Ивана за руки, – Моя к тебе просьба. Братская просьба, Ванюша.
Иван взглянул на Игнатия беспокойно, недоумевающе и спрятал письмо без адреса в карман мундира.
По Симбирской улице дошли они до моста, направились через Неву к Литейному проспекту.
С нового моста широко и далеко смотрелось. Будто нездешнее, непетербургское стояло солнце – веселое, языческое солнце Марта. По небу как талые воды разлились. Снег на Неве играл переливчатыми искрами… Огромное, светлое, отрадно-холодное надвинулось и поглотило Гриневицкого. Он удивленно замедлил шаг, хорошо задышал, до конца легких задышал, и вдруг повеяло ему в лицо нежно, робко, сладостно, как бывает только в марте.
Об руку с братом шел Гриневицкий, но была в нем неизведанная прежде радость одиночества, полной освобожденности. И еще так, словно сейчас, сию минуту он отгадает какую-то ослепительную тайну. А тайна не давалась, отступала, будто маня перейти мост. Но это не огорчало Гриневицкого; напротив, все больше и все сильнее, почти уж до физического ощущения, полнило бурной и немой любовью ко всему, что было в этом мартовском мире.
– Что с тобою, брат?
– А… Да, да… – проговорил Игнатий, встряхивая головой. – Вот, Ваня, как хорошо… Да, да… А видел бы ты, дружок, старый, прежний мост. Чертовым звали. Здесь, на этом вот месте, разводная часть была. Деревянная, низкая-низкая. Ее, бывало, напором воды горбом поднимает, а после – наледью. Хоть караул кричи: падаешь, скользишь. А лошади – вот уж несчастные! Ух, и драли их ломовики, нещадно драли. И мне всякий раз, как увижу, Достоевский на ум. В «Братьях Карамазовых» помнишь? Нет? Ну как же…
Иван слушал не то, что Игнатий говорил, а что в голосе его было. Слушал и сознавал: творится с Игнатием что-то важное, серьезное, страшное. А что – понять не мог.
Кончился мост, слился с Литейным. Неловко и коротко, как однорукий, Гриневицкий обнял брата, обжег ему ухо: «Не унывай, гордись!» – и, тотчас отстранившись, побежал, словно земля ему помогала, за конкой.
– Гнатик! Гнатик! – закричал Иван, охваченный внезапным смятением. – Гна-а-а-тик…
Так звали его дома, в детстве, в деревне Большие Гриневичи. Он не услышал – конка покатилась…
…Отстояв заутреню в дворцовой церкви, Александр прогулялся по набережной, потом, после кофе, велел позвать куафера.
– Молле, – сказал император парикмахеру, – позаботьтесь о моих усах. Хорошенько позаботьтесь, Молле!
Француз мелодично звякнул золоченым прибором и взялся за дело. Сухая невесомая рука уверенно и быстро поводила бритвой, слышалось слабое шуршание, приятное и брадобрею и императору.
Потом Молле принялся за усы. Большие, пышные, соединяющиеся с такими же пышными бакенбардами, усы эти требовали истинного куаферского мастерства.
Молле слегка подстриг и подвил их, чуть загнул кверху, ласково щелкнул щипцами, схватил зеркало и, отступив, изогнувшись, забросил одну руку за спину, а другую – с зеркалом – вытянул.
Александр увидел крупное надменно-приветливое лицо с глянцевитым подбородком и залысым покатым лбом… Черт побери, совсем недурно для человека, которому без малого шестьдесят три. Говоря по чести, он еще молодцом, и нынче в манеже им полюбуются лейб-гвардейцы.
Александр поднялся с тем чувством обновления, какое бывает после бритья, и предоставил себя камердинеру.
Пришел Лорис-Меликов, доложил, что в девять утра градоначальник собрал у себя на квартире полицмейстеров и приставов.
– Он передал им ваше, государь, совершенное удовольствие деятельностью полиции.
– Пусть стараются, пусть стараются, – заметил император точно таким тоном, каким он говорил Молле о своих усах. И взглянул на карманные английские часы. – Пора. Не люблю, когда меня ждут.
Но Лорис-Меликов не двинулся с места: он опять, как вчера, ждал. Он смотрел на Александра темными, чуть маслянистыми глазами, смотрел, не смаргивая, не опуская тяжелых коричневых век.
– Ах, это… – сказал Александр с досадой. И добавил с оттенком хмурого лукавства, словно бы вывертываясь из Лорисовых рук. – Да, непременно передам Валуеву.
Император втайне надеялся, что председатель комитета министров из личной неприязни к «диктатору» отыщет какие-либо причины для проволочки с публикацией правительственного извещения. Александр знал: у Лориса с Валуевым небольшие разногласия относительно созыва представителей, они скорее единомышленники, нежели противники. Но Александр знал и другое: когда нет гласности, когда дела решаются келейно, когда годами дышат дворцовой атмосферой, личные отношения – весьма солидная гиря на чашах государственных весов. И потому надеялся на Валуева.