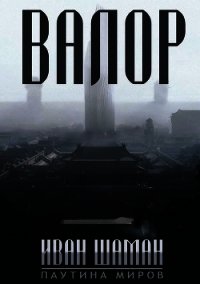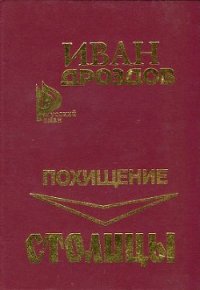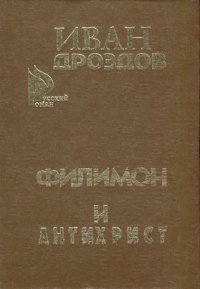ПОСЛЕДНИЙ ИВАН - Дроздов Иван Владимирович (бесплатные книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Молотов прибавил шагу и быстро от нас оторвался. Я тогда сказал профессору:
– Не очень это вежливо с нашей стороны.
На что он мне ответил:
– Вы, дорогой, мало информированы, но когда узнаете… Жалости и у вас поубудет.
Андрей Дмитриевич проводил меня на станцию. Поздно вечером я приехал домой. Поднялся к себе наверх и там, на диване, лег спать. Однако сон ко мне не шел. То ли алкоголь, то ли издательские сюжеты не давали сомкнуть глаз. Много тревог и волнений было у меня в газете – бился за каждую статью, затем писал новые, мучился и страдал от обилия в нашей жизни хамства, несправедливостей, от вторгавшейся уже тогда во все поры общества хищной и разбойной коррупции, но и тогда, кажется, меньше напрягалась моя психика, чем в эти первые дни работы в издательстве.
При лунном свете смотрел на свой осиротевший великолепный финский письменный стол,- являлось желание все бросить, вновь сесть в это вот кресло и – писать. Но тут же приходила мысль о бегстве с поля боя. Блинову тоже трудно, ему и вовсе служба может сократить жизнь. Он обеспечен, у него вышло много книг, но ему и на миг не является мысль о бегстве. Нет-нет, об отступлении не может быть и речи. Призывай на помощь весь опыт жизни, всю волю,- борись, но борись спокойно, с достоинством, как боролись на фронте. Там ведь не было истерики и не было, конечно, мыслей о бегстве. Ты же тоже был на войне.
О минутных своих слабостях забудь. И никому о них не говори, даже дома, даже Надежде. Нельзя демонстрировать слабость духа. Нельзя ныть и хныкать, собирай силы и – в дорогу. Издательство «Современник» – это твоя новая дорога, это новая ситуация – почти фронтовая, твой новый плацдарм. Хорошенько окапывайся, налаживай круговое наблюдение, боевые дозоры – готовься к любому обороту дел.
А где-то стороной в сознании шли мысли: «Интересно, можно ли писать и в этой обстановке? Сорокин, кажется, написал поэму о палестинцах. Панкратов – тоже пишет. Им, конечно, легче. Все-таки – стихи. А Блинов? Он все время работает – в «Литгазете», в «Труде», в «Профиздате». И сколько написал! Значит, можно.
И с этой мыслью я наконец засыпаю.
Приступы болезни Блинова длились недолго: два-три дня отдохнет, и вновь на работе. Его глубокие знания современного литературного процесса, опыт газетной и издательской работы сильно нам в то время пригодились. Мы составляли первые планы, на ходу рождали серии книг, принципы отбора рукописей, механизм рецензирования, консультаций, согласований.
Прокушев являлся в издательство в поддень, а то и к концу дня. Он каждый раз привозил новые идеи и рукопись. Идеи нередко разумные, он черпал их в общении с руководителями других издательств,-такими, как Николай Есилев, Евгений Петров, Валерий Ганичев,- со знающими книжное дело людьми из Союза писателей, Госкомиздата.
Вынимал из портфеля рукопись. Передавая ее Блинову или мне, обыкновенно говорил:
– Почитайте сами. И поскорее.
Рукопись приходилось читать вечерами или ночью за счет сна, и чаще всего я поражался пустоте и даже глупости написанного. Возвращая директору, говорил:
– Тут нечего планировать. Рукопись откровенно слабая.
– Постой, постой! – раздражался директор.- Анализировать надо по существу, разбирать элементы…
– Юрий Львович! В рукописи нет никаких элементов, и нечего ее разбирать.
– Как это нет элементов? Хе! Это что-то новое.
– А так: нет и все! Идеи или какой-нибудь важной сквозной мысли тут нет; разговор бессистемный, по поводу бог весть чего. Сюжета тоже никакого – не поймешь, где начало, где конец и как развивается тема, которая, впрочем, тоже неясно очерчена. О композиции и говорить нечего, она бывает там, где есть идея, и тема, и сюжет. Язык беден, фразы шаблонные, будто надерганы из расхожих газетных статей. О чем же еще говорить, Юрий Львович? А вообще-то я не намерен в следующий раз отнимать у вас драгоценное время подробным анализом рукописей. Такой анализ даст вам рецензент или редактор – я же занимаю такую должность, которая предполагает между нами доверие. Не хотел бы, чтобы каждый подобный разговор носил характер экзамена. И чтобы нам выработать общий взгляд, просил бы вас прочесть эту рукопись.
Прокушев брал рукопись, наверное, ее прочитывал, но мне о ней больше ничего не говорил. И с течением времени наши разговоры о рукописях были короче. Если я говорил, что рукопись сырая, автор для нас неинтересен, Прокушев не просил анализировать ее подробнее. Поскольку поток рукописей У нас нарастал, в первый же год мы получили их около двух тысяч, такой анализ превратился бы для нас в бесконечное говорение.
Не уменьшалось и количество рукописей, приносимых нам по особым просьбам и рекомендациям. Я стал замечать, что они какими-то окольными путями попадали в план редакционной подготовки, то есть не в торговый план, куда заносятся уже одобренные рукописи, а в план перспективный.
Не всегда удобно было затевать следствие по таким рукописям – тут непременно бы наткнулся на руку директора,- но я отмечал их для себя в особой тетради, усиливал за ними контроль. Заметил, что работа над ними поручается редакторам-евреям, а те посылают своим рецензентам, своим же людям на консультации в научные учреждения, и рукопись затем обрастает мнением важных авторитетов. Нужны были серьезные усилия главной редакции, чтобы во время зацепить ее, как клещами, и выдрать из технологической цепи.
Немалых денег стоили нам такие рукописи, немалых усилий и рабочего времени.
Постепенно выяснялся еврейский пласт нашего издательства – кадры, заброшенные Прокушевым в первые же дни после своего назначения. Не было еще Блинова, не появились мы с Сорокиным, а директор с какой-то непостижимой быстротой подобрал угодную ему команду. Первым редактором стала Геллерштейн, заместителем по производству – Евгений Михайлович Дрожжев, человек пожилой, с постоянной улыбкой на лице и бульдожьей хваткой в делах. Он много лет работал директором одной из столичных типографий, знал полиграфических деятелей, умел быстро находить ходы и выходы, и вскоре обнаружилось, что с ним легко работалось только евреям, все же русские, попадавшие под его начало, оказывались и ленивцами и неумехами. Иные из них приходили ко мне, жаловались и просились в другие подразделения.
Дрожжев был евреем и не скрывал этого, как делали у нас многие, например главный художник издательства Вагин. «Я уральский казак, а этих… не люблю»,- говорил он обыкновенно, не уточняя, кого имел в виду под словом «этих». В его отделе было два сотрудника – русский и еврей: русский был талантливым художником, оформлял особо ценные книги, заказывал, давал задания, советы другим художникам. Еврей подбирал художников, формировал наш оформительский корпус.
Художники напрямую подчинялись директору, мы же в главной редакции лишь окончательно определяли качество оформления и ставили свои подписи.
Вагин так подгадывал, чтобы из трех членов главной редакции в издательстве оставался один. Тут он, точно карты, раскидывал на столе свои картинки, просил посмотреть и подписать.
Картинки эти поражали меня примитивизмом и безобразием: человечки походили на Буратино: палочки потоньше – руки, палочки потолще – ноги, они куда-то валились и падали, на уродливых лицах ошалело таращились глаза. Если то были животные, то не поймешь: лев это или собака, тигр или овца. Звезды раздавлены, расплющены и куда-то летят. Рядом с большой пятиконечной звездой – звезды маленькие, шестиконечные. Впрочем, шестой лучик чаще всего не выражен, как бы не развит, только еще растет. В другом месте художник, видимо, увлечется и начнет уж откровенно лепить эти символы израильского государства, и, конечно же, лепит другие знаки и символы, смысл которых надо разгадывать, но которые понятны почти каждому еврею.
Над рисунками склонились Прокушев, Дрожжев и заведующий редакцией прозы Владлен Анчишкин. Он вынырнул в издательстве как-то неожиданно,- оказалось, что о его назначении уж давно есть приказ директора. Блинов о нем говорил: