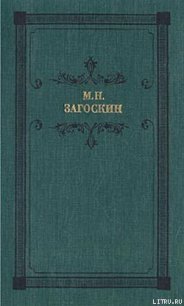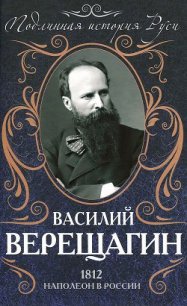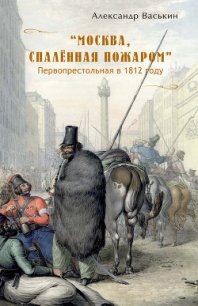Рославлев, или Русские в 1812 году - Загоскин Михаил Николаевич (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
– И с которой, несмотря на это, даже и ты не захочешь расстаться! – перервал с улыбкою Зарецкой. – Полно, братец! Вы все, чувствительные меланхолики, пренеблагодарные люди: вечно жалуетесь на судьбу. Вот хоть ты; я желал бы знать, казалась ли тебе жизнь каторгою, когда ты был уверен, что Полина тебя любит?
– Но я ошибался, мой друг! – Да разве от этого ты менее был счастлив? Вот то-то и есть, господа! Пока все делается по-вашему, так вы еще и туда и сюда; чуть не так, и пошли поклепы на бедную жизнь, как будто бы век не было для вас радостной минуты.
– Но что все прошедшие радости…
– Перед настоящим горем?.. И, mon cher! и то и другое забывается. Конечно, я понимаю, для твоего самолюбия должно быть очень обидно…
– Эх, братец! какое самолюбие…
– Да, любезный, не прогневайся! Самолюбие в этом случае играет пребольшую ролю. Что ни говори, а ведь досадно, как отобьют невесту; да только смешно от этого сходить с ума: посердился, покричал и будет. Вот то-то же, поневоле похвалишь наших неприятелей. Кто лучше их умеет пользоваться жизнию?.. Француз не задохнется от избытка сердечной радости, да зато и не иссохнет от печали. Посмотри, как он весел, как всегда доволен собою, над всем смеется, все его забавляет. Заговорит дело – есть что послушать: все знает; заговорит вздор – также заслушаешься: какая веселость в каждом слове! И как милы эти фразы, в которых нет ни на волос здравого смысла! Конечно, и у них есть исключения, но они так редки… Печальный француз! не правда ли, что это даже странно слышать? А отчего они так счастливы?.. Оттого именно, что душа их не способна к сильным впечатлениям. Они… как бы это сказать по-русски?.. они слегка только прикасаются к жизни. Знаешь ли что, мой друг? Если ты хочешь непременно сравнивать с чем-нибудь жизнь, то сравни ее с морем; но только, бога ради, не с бурным, – это уже слишком старо!
– А с каким же, Александр?
– Да просто с нашим петербургским, когда оно замерзнет. Катайся по нем сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что под этим блестящим льдом таится смерть и бездонная пучина; не останавливайся на одном месте, не надавливай, а скользи только по гладкой его поверхности.
– То есть не принимай ничего к сердцу, – перервал Рославлев, – не люби никого, не жалей ни о ком; беги от несчастного: он может тебя опечалить; старайся не испортить желудка и как можно реже думай о том, что будет с тобою под старость – то ли ты хотел сказать, Александр?
– О нет, мой друг! я не желаю быть эгоистом.
– И в то же время не хочешь ни о чем горевать? Да разве это возможно?
– Да, конечно… не спорю, тут есть, по-видимому, какое-то противоречие… Однако ж я не менее того уверен, что эта философия…
– Ничем не лучше моей. Что грех таить, Александр! у меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и сам заговорил вздор. По-моему, жизнь должна быть вечной ссылкою, а по-твоему, беспрерывным праздником. Благодаря бога и то и другое для нас невозможно, Александр! Тот, кто вечно крушится, и тот, кто всегда весел, – оба эгоисты.
– Это почему?
– А потому, что человек, неспособный делить ни с кем ни радости, ни горя, – любит одного себя.
– Почему ж одного себя? Можно любить и приятеля – разумеется, до некоторой степени.
– А до какой степени простирается эта любовь к приятелю в человеке, который для того, чтоб с ним повидаться и спасти его…
– И полно, mon cher! что за важность! Ты видишь, я целехонек.
– Вижу, мой друг! Но, признаюсь, удивляюсь и желал бы знать, как ты уцелел?
– Ты еще более удивишься, когда узнаешь, что я, будучи в Москве, вызывал на дуэль капитана французских жандармов.
– Неужели?..
– Представь себе: он вздумал меня расспрашивать; я пустился ему лгать что есть мочи, и этот грубиян осмелился сказать мне в глаза, что я говорю неправду…
– Ах он невежа!..
– Разумеется, я вспыхнул, закидал его французскими фразами…
– И он не догадался, что ты русской?
– А почему бы он догадался?
– Да помилуй! Не может же быть, чтоб ты так хорошо говорил по-французски, как настоящий француз?
– Не может быть? Да знаете ли, сударь, как я был воспитан в доме своей тетушки? Знаете ли, кто с пятилетнего возраста был моим гувернером? Известна ли вам знаменитая фамилия аббата Григри, который плохо знал правописание, но зато говорил самым чистым парижским языком? Знаете ли, что я на десятом году не умел еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербург дивился моему французскому выговору и все знакомые поздравляли тетушку с племянником, который как две капли воды походил на француза? Как теперь помню, добрая старушка всякой раз крестилась и говорила со слезами: «Слава богу! я знала наперед, что в Сашеньке будет путь!» Чему ж после этого удивляться, что меня приняли за француза?
– Хорошо, мой друг, согласен: по выговору не можно было догадаться, что ты русской; но нельзя же, чтоб не было в твоей манере и ухватках…
– В моей манере? Постой, братец, я сейчас представлю тебе лихого французского кавалериста, который только что вырвался из Пале-Рояля. Посмотрим, заметишь ли во мне хоть что-нибудь русское? Зарецкой развалился небрежно на седле, подбоченился и надел а la tapageur [90] свою французскую фуражку. В продолжение сих приготовлений к роле, которую он готовился играть, из-за куста выглянули две весьма некрасивые рожи: одна с рыжей бородою, а другая, по-видимому, обритая недели две тому назад и обезображенная огромным рубцом. Небольшой черный галстук, единственный остаток от прежнего наряда, доказывал, что это лицо принадлежало какому-нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замечая этой засады, продолжали ехать потихоньку.
– Ну что? – спросил Зарецкой, отпустив несколько парижских фраз, – заметен ли во мне русской, который прикидывается французом? Посмотри на эту небрежную посадку, на этот самодовольный вид – а? что, братец?.. Vive I' Empereur et la joie! Chantons! [91] – Зарецкой пришпорил свою лошадь и, заставив ее сделать две или три лансады [92], запел:
Вдруг раздался выстрел, и человек десять вооруженных крестьян высыпало на дорогу. Прежде чем Зарецкой успел опомниться и рассмотреть, кто на них нападает, второй выстрел ранил лошадь, на которой ехал Рославлев; она закусила удила и понесла вдоль дороги. Зарецкой пустился вслед за ним; но в несколько минут потерял его совершенно из вида. Ослабевший от болезни Рославлев не мог долго управлять своей лошадью: выскакав на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной из них, ведущей в самую глубину леса. Несколько раз принимался он снова ее удерживать, но все напрасно; наконец, проскакав еще версты две, она повалилась на землю. Рославлев, видя, что лошадь его издыхает, решился идти пешком по дороге, которая по всем приметам должна была скоро вывести его на жилое место.
Едва он успел сделать несколько шагов, как ему послышались в близком расстоянии смешанные голоса; сначала он не мог ничего разобрать и не знал, должен ли спрятаться или идти навстречу людям, которые, громко разговаривая меж собою, шли по одной с ним дороге. Вдруг ясно выговоренный немецкой швернот [94] раздался от него в двух шагах, и кто-то повелительным голосом закричал: «Allons, sacristie! en avant!» [95] Рославлев кинулся в сторону, но было уже поздно: из-за кустов показалась целая толпа неприятельских мародеров.
90
набекрень (фр.).
91
Да здравствует император и веселье! Споем! (фр.)
92
прыжок, скачок (от фр. lan cade).
93
Французские куплеты, которые лет двадцать тому назад были в большой моде, по крайней мере у нас в Петербурге. – Прим. автора.
94
черт возьми.
95
Ну же, черт возьми! вперед! (фр.)