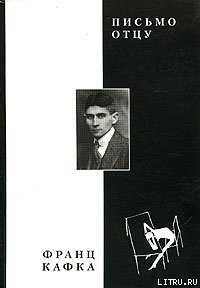Хмель - Черкасов Алексей Тимофеевич (читать книги регистрация .txt) 📗
И кандальники-единоверцы Микула, Никита, Гаврила, Пасха-Брюхо, Мигай-Глаз и многие даже чужие и неведомые для Ефимии люди, глядя на нее и на Мокея, горько заплакали и вспомнили, быть может, своих несчастных матерей, невест и верных подружий…
– Пшли! Ша-гом арш! Арш! Арш!..
И разом, как колокольный перезвон, звякнули цепи головных каторжников, и постепенно, ряд за рядом, тронулся по тракту весь этап, растянувшийся на четверть версты.
«Тринь-трак, тринь-трак, тринь-трак…»
Путь сибирский дальний!..
Ефимия и Мокей шли, взявшись за руки. Впервые в жизни! И здоровущая ладонь Мокея показалась Ефимии такой нежной и жалостливой, что она не чувствовала ни ее тяжести, ни ее силы, как бывало не раз, когда Мокей хватал ее по-звериному, кидая наземь, как щепку.
Нет, он не убивец купца. Шибанул кирпичом кто-то из купеческих возчиков, а на него свалили. В остроге толковали: писать надо бумагу царю. Да чего там! Лучше каторга, чем помилование царя-кровопивца.
Не забыл Мокей и про брыластого борова Калистрата.
– Зрила, сколько наших людей цепи тащат? Про апостолов глагола нету. Собаки! Не жалкую. А вот как Ми-кула, Никита, Поликарп, Гаврила, Пасха-Брюхо, как другие верижники и посконники, – тех жалкую. Семьи остались. Ребятишки, бабы едные. Как жить будут? Мытарство, мытарство. Через кого погибель пришла? От брыластого борова. В милость вошел ко щепотникам, паче того – архиерею, собаке. На судилище всех оглаголал. Слышала? Кровь кипела – удушил бы. Да цепи вот!
– Так, Мокей. Цепи, – подтвердил Микула.
– И бог то зрит и милостью осыпает мучителя, а праведники цепи тащат. Тако ли?
Ефимия вздрогнула. Сама о том не раз думала! На привале попрощалась с Мокеем и со всеми одиноверцами-каторжанами.
Этапные тронулись в путь…
– Прощевай, подружия! Навек прощевай! – кричал Мокей.
– Прощевай, Мокеюшка! Прощевай! Не зри небо в тучах. Не губи живую душу!
– Прощевай, благостная! – кланялись единоверцы. Ефимия долго еще шла сбочь дороги.
«Тринь-трак, тринь-трак», – стучало железо в безмолвном просторе равнинной степи.
АПОЛОГ
I
Из сумерек тирании слышится вопль: «Велика Русь, а деться некуда!..»
Остроги и цепи, стражники и жандармы, арестантские одежды и бубновые тузы на спинах каторжан: «По высочайшему повелению…»
Пятерых удавили на одной перекладине…
Тысячи забили шпицрутенами…
Сотни заковали в кандалы и угнали в Сибирь на каторгу…
Солдаты били в барабаны. Розовело небо.
«По высочайшему повелению…»
На руках цепи. На ногах цепи.
Зной и жажда.
Показалось какое-то поселение. Полз, полз к людям…
– Воды, воды, воды!..
– Изыди, сатано! Хлебай смолу кипучу!..
А розовое солнце так же поднималось над миром, как в то утро 13 июля 1826 года, и пятеро повешенных висели на пеньковых веревках на одной перекладине…
Кузнец Микула пилил заклепки.
«Дззз… дззз… дззз» – пел напильник…
– С той деревни и я родом. Там, почитай, вся деревня из Боровиковых состоит. Слыхал, может, от деда, как он выиграл в карты имение у помещика Боровикова? Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, по прозванию Боровиков, старостой был на деревне. Слово такое сказал – два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно, и тут же смерть принял…
Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «Ма-а-а-туш-ка-а-а! спа-асите!»
Судная ночь…
По всей России вопль и стон. От поколения к поколению одно и то же: холопы – под барином, барин – под царем, царь – под богом, а бога никто не видывал, никто его голоса не слыхивал.
Неистово, до исступления, молились в неведомое, не получая ни ответа, ни поддержки…
Из века в век: «Глас вопиющего в пустыне…»
В окружающей жестокости Филарет утвердил свою жестокость, чтобы сохранить общину. И он сумел это сделать, духовник Пугачева. Через всю Россию-матушку провел единоверцев, и вдруг предательство брыластого борова Калистрата – и более полусотни душ обрели цепи. И сам Филарет – гордый и непримиримый старец – почил в каменном подвале Тобольского острога, и кто знает, где захоронили его бренные останки!
II
Не стало крепости Филаретовой… В судной избе поселилась семья поморца Валявина – осьмнадцать душ. Лоб ко лбу, плечо к плечу. Пятеро мужиков – сыновья старца Валявина. Снохи, детишки, старуха на изжитии.
Дочь Валявина Акулину с младенцем сожгли, яко еретичку. Легко ли?
На костылях – рухлядь домашняя. На тех самых костылях, где совсем недавно исходила воплем Акулина, кряхтел апостол Елисей и мучилась благостная Ефимия…
Старик Валявин не стал молиться на испоганенные иконы – прорубил в избе дырку на восход солнца: «Бог-то, он не в досках, а на небушке пребывает». И вся семья Валявина молилась в дырку, а потом и другие стали также молиться.
С того пошло новое верование – «дырники».
Данило Юсков уверовал в явление богородицы под рябиной, хотя сама Ефимия молчала теперь про богородицу. Данило Юсков рассудил так: богородица сказала болящей Ефимии, что спасение будет под рябиной, значит, надо всем носить рябиновые крестики, тем паче рябина не кипарис, не благородный лавр, везде произрастает, и даже в Сибири.
Многие общинники нацепили на себя самодельные рябиновые крестики и собирались у старца Данилы слушать его проповеди и чтение Писания.
Рябиновцы не только усердно молились, но и прибрали к рукам лучших лошадей, коров, овец, и конная мельница с крупорушкой оказалась у рябиновцев. Так что в общине не раз вспыхивали потасовки. Мужики хватали друг друга за грудки, за бороды.
Бабы тоже не отставали – тайком уводили коров и телят к своим землянкам и клетям, всячески понося друг друга. Особенно враждовали рябиновцы с ларивоновцами. Ларивон явил себя духовником заместо упокойного батюшки Филарета, и к нему в избу стекались крепчайшие поморцы, совершали всенощные молебствия, проклиная вероотступников и более всех Юсковых, из-за которых будто пришла напасть на всю общину поморских раскольников.
Так мало-помалу единая крепость распалась на разные толки, но никто из общинников не явился с раскаянием в православную церковь и не примирился с царской властью.
III
Лохматая, постылая осень.
Вчера еще над Приишимьем пролетела последняя связка курлыкающих журавлей, а ночью ударил приморозок с ветром – и Ефимия озябла в своей избенке.
Ночь тянулась, как суровье на кроснах, – однообразно и бесконечно. Скорчившись под рухлядью, Ефимия никак не могла уснуть и все глядела в квадратное оконце. Голые сучья рябины, качаемые ветром, тоненько царапали стекло. Когда-то ей привиделась богородица под рябиной. «Не было того, не было! Туман единый да сон тяжкий».
Нет, она не запамятовала свои молитвы. Всенощные, до измора тела и духа, недельные раденья с тысячами земных поклонов, и никто не отозвался на ее молитвы – ни бог, ни сын божий Исус, ни матерь божья.
«Веденейку удушили под Исусом!..»
Если бы Исус был камнем, то и камень треснул бы от горьких стенаний Ефимии и надрывного вопля Мокея.
Но камень не треснул, потому что и камня не было.
«Нету у него грома. Нету у него молний. Нету у него ушей. Нету у него глаз. Пустошь едная. Исус от книг произошел со богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили, звери!..»
И вот Ефимия осталась одна. Совсем одна в березовой избенке, продуваемой студеным ветром.
Не жена, не девица, не вдовица.
Мученица.
Тьма. Тьма. Забвение.
Жестокое одиночество и неприкаянность живой среди живых, «в тумане пребывающих».
Сплетаются два голоса. Она их теперь все время слышит. И днем и ночью.
«Не надо молитв, Ефимия! Никто их не слышит. Ни бог, ни богородица».