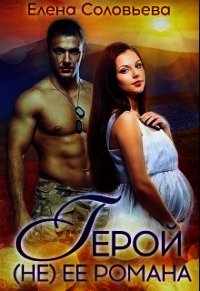Петербургские трущобы. Том 1 - Крестовский Всеволод Владимирович (хорошие книги бесплатные полностью .txt) 📗
Вот у внутренних церковных дверей расположился не человек, а какое-то подобие человека, скорее намек на человеческий организм, безотрадно представляющийся взорам в виде кривого, горбатого и безногого существа, которое держится на деревянных колодках, прикрепленных к бывшим лядвеям, а ныне обрубкам человеческого тела, обрубкам выше колен, и движется с помощью рук, заменяющих ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминает ежа или дикобраза, а в маленьких, глубоко ушедших глазах, которыми существо это поводит из стороны в сторону, светится что-то мышиное. «Господи, Исусе Христе, владычица тифинская!» – бессознательно произносит оно с каким-то высвистом своим фальцетным голосенком и правая рука его при этом необыкновенно быстро болтается, как бы торопясь наделать возможно большее количество крестных знамений. «Касьянчику-старчику Христа-а ради!» – выпевает он дрожащим голосом, силясь повыше вытянуть за подаянием свою руку, и подаяние по большей части, благодаря выгоде первого места, попадает прежде других в ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчику-старчику никогда не удалось бы занять лучшего нищенского места, если бы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась в образе соседа и сотоварища его, известного под именем Фомушки-блаженного. Ражий, коренастый мужчина лет тридцати пяти, росту выше чем среднего, плечистый и плотный – он представлял действительно весьма внушительный и надежный оплот для такого жалкого существа, как Касьянчик-старчик. Фомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Порыжелая бархатная скуфейка, на манер монашеской, частью прикрывала спутанные длинные космы его рыжих и жестких волос. Одутловато-мясистые жирные щеки и клюквенно-пухлый нос служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физиономии; физиономия эта украшалась рыжею щетиною вместо усов и клоками неопрятной бородищи, которая отдельными щепотьями произрастала у него в различных направлениях. Стальной обруч, заменяя собою пояс блаженного, охватывал в талии его черную хламиду, которая также старалась походить на монашескую ряску. Полы хламиды, вися оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильным слоем уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, заскорузла тут в виде целых пластов, комков и наростов. От этого костюма и от самого Фомушки разило на три шага невыносимым смрадом. Но в этом смраде и в этой грязи своей Фомушка находил особенную усладу, а почитатели его относили все это к подвижничеству. Фомушка бойко и независимо стоял себе на своем месте, ежеминутно почесываясь и тяжело сопя носом на весь притвор церковный. Вся остальная братия чувствовала достодолжное почтение к его внушительному кулачищу, с которым, в самом деле, нехорошо бы было повстречаться в пустом, уединенном месте.
Совершенный контраст с Фомушкой-блаженным представляла кривошейка – vis-a-vis [168] ежа-Касьянчика – женщина лет за сорок, с выражением благообразно-постного смирения в желтоватом лице. С головы ее спускался большой черный платок, а остальной костюм, отличаясь своею опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом монашек и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особа эта, подобно Фомушке-блаженному, покровительством которого пользовалась наравне с Касьянчиком-старчиком, составляла своего рода авторитет и была известна под именем Макриды-странницы. Она резко отделялась от остальной братии, к которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стояла с книжкой – и, стало быть, подвизалась доброхотными сборами на построение храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида-странница купно с Фомушкой-блаженным и Касьянчиком-старчиком составляли одно целое, как бы одну семью и преследовали одни и те же цели.
Позади всех этих групп разнородной нищей братии ежилась от холода еще одна новая личность, которая, крадучись кошачьей походкой, прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо стараясь быть незамеченной ими. Но нищие вообще народ очень зоркий: крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически терпеливым молчанием. Эта личность являлась в виде высокого, длинного, сухого старика в ветхом халатишке, подпоясанном дырявым фуляром. Энергически сжатые губы и брови, нависшие над тускло-неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно-черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергаментно-бледной, выцветшей и давно не бритой физиономии.
Служба кончалась; из церкви повалил народ.
Вышел благочестивый блюститель порядка, и толпа нищих ребятишек, издали еще завидя приближение врага, на время его прихода разбежалась в темные закоулки поблизости церкви, а нищие взрослые постарались притвориться не нищими, и сделали вид, будто тоже выходят из церкви. Но блюститель порядка скрылся во мраке – и публика паперти заняла свои прежние роли.
Вышел чахоточный купец и сунул грош в руку Касьянчика-старчика.
– Не площай! – ткнул его пальцем в голову Фомушка и протянул к дателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой «для близиру» [169] лежало несколько медяков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, образовавшейся вокруг дателя толпы, незаметно стянул грош с макридиной книги и, с судорожной поспешностью сунув в карман, протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки, в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошаек. Едва Фомушка-блаженный очутился за спиною купца, как его тяжеловесная лапища легонько давнула загривок старика.
– Ты что, леший? опять двурушничать? – просопел он ему шепотом.
Старик только окрысился, защелкал зубами да часто замигал веками со злости и перебрался подальше от блаженного.
Вышла молодая купчиха, охотница до раздач, – и на паперти повторился тот же самый процесс. Старик, в отдалении от Фомушки, снова двурушничал.
Вышла купчиха пожилая, толстая, сонная, с благочестиво-тупым и забито-апатическим выражением в лоснящемся от поту лице, и, как к знакомой, приветливо обратилась к Макриде:
– Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка! – заговорила она на полужалобный распев. – Приходи-тко завтра на блинки… родителев помянуть… Не побрезгуй… да вот – и блаженного упроси с собою,
Фомушка при появлении этой особы мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплуа юродивого.
– Раба Степанида! – забормотал он, крестясь. – Ангели ликуют, на Москве колоколам трезвон… Ставь столы дубовые, пеки кулебяку с блинами: я те, раба Степанида, к небеси предвосхищу.
– Предвосхищи, Фомушка, предвосхищи, блаженненький! – слезно умилялась низколобая толстуха, уловив только звукопроизношение, но не поняв значения последней фразы юродивого, и сунула пятак в его лапу.
Ободренный Фомушка уже нараспев, скороговоркой доканчивал свою мысль:
– Предвосхищу, мать моя, предвосхищу, идеже вся святии упокояются; на венчиках красные, христосские яйца, в яйцах Фомушкина копеечка мотается – тук-тук-тук молоточком!
При фразе насчет упокоения и молоточка бессмысленный, овечий страх отразился на физиономии толстухи, Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля Фомушку и строго повела на него бровями.
– Не печалуйся, раба, не печалуйся! – снова забормотал блаженный. – Гряди домой с миром, хозяин твой пьян лежит, надо полагать, бить будет; а ты, раба Степанида, сто лет проживешь.
Раба Степанида успокоилась и вздохнула.
– Это точно что, это ты правильно, голубчик, божью волю предсказываешь, – заговорила она в минорном тоне, – пожалуй, и вправду бить станет, потому надо бить, верно, хмельной воротился да самовару не нашел… Ох-тих-тих! житье-то наше!
[168]
Напротив (фр.).
[169]
Для виду (жарг.).