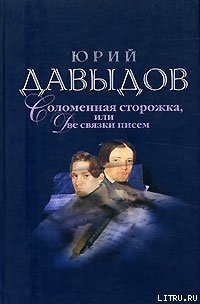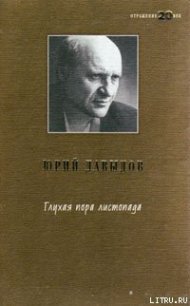Март - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
После убийства Нечаев укрылся за границей, в Швейцарии. Вскоре, однако, швейцарское правительство выдало Нечаева. Его арестовали неподалеку от Цюриха, в цепях повезли, судили как уголовного, и ретрограды вопили, что все они, революционеры, социалисты, одного чекана с Нечаевым. Было это почти десять лет назад. Никто о нем больше не слыхал. Шелестела когда-то молва, что Нечаев погиб в сибирских рудниках, да и она давно уж стихла. И вот теперь Денис знал: Нечаев в крепости.
В крепости? Но в централах, в каторжных тюрьмах гнили десятки людей, ради спасения которых можно было пожертвовать многим. А во-вторых… во-вторых, даже если бы представилась возможность, стоило ли жертвовать хоть одним народовольцем для спасения Нечаева? Впрочем, ни о какой помощи узнику Алексеевскою равелина, откуда еще никто никогда не бежал, нечего было и помышлять. И потому вопрос: «А надо ль помогать?» – был праздным. Денис, поглощенный подкопом, слежкой за царем, хранением динамита, перестал об этом думать. Но все же нет-нет да и виделся ему каменный гроб на свинцовых волнах и человек в равелинной норе, где шевелятся мокрицы.
А в канун рождества – уже после ареста Михайлова – случилось негаданное: окольной стежкой, через слушателя Медико-хирургической академии, добрела до Исполнительною комитета записка из Алексеевского равелина.
Никаких воздыханий, ни тени мольбы, ни полсловечка, бьющего на чувство. Самое поразительное и ослепительное как раз и заключалось в этом: на девятом-то году заточения! Писал без обиняков: его можно освободить, есть пособники, при некоторых усилиях с воли дело сделается как нельзя лучше.
Денис был ошеломлен. И вместе со всеми, вместе с Желябовым и Перовской: «Надо освободить!» А потом… потом они разом примолкли, и какое-то недоуменное раздумье завладело ими. Разумеется, в каменном мешке томился противник самодержавия. Но ведь тем противником был иезуит от революции.
Еще до Липецка, до Воронежа всякий раз, как заходила речь о тайной боевой организации, где все строилось бы на железном подчинении сверху вниз, всякий раз вспоминался Нечаев. Не убийство Иванова страшило само по себе – с предателями так и следовало поступать. Но в предательстве Иванова ни тогда, ни после уверенности не было. Нечаев пошел на убийство, и убил, и принудил других участвовать в убийстве. Тайна, конспирация позволили ему вершить судьбами, генеральствовать, обманывая одних, пугая других. Возможность эта следовала почти математически из самой сути конспиративного, подпольного бытия организации. И потому страшил призрак нечаевщины.
Но теперь, когда был Исполнительный комитет, когда «Народная воля» жила на основах конспирации, выстраданной, кровью оплаченной, – теперь не сама нечаевщина, как явление, а сам Нечаев, как личность, подлежал обсуждению.
Желябов встал горой. Как! Революционер, который во время гражданской казни в Москве бросал в толпу: «Да здравствует вольный русский народ!» Борец, которого не переломили годы, который не сдался и не угас разумом… Денис возразил: многие из наших сидят в централах, гибнут в каторге, однако кто ж предлагает сосредоточить силы на их спасении? Его перебила Перовская: да, верно, но к тому нет средств, а здесь…
Ничего не решил декабрьским вечером Исполнительный комитет. Однако все сошлись на том, что они не имеют права обронить нить, переброшенную с невского острова. И вот тогда-то началось. Денис сперва сторонился, но вдруг ввязался в дело, и ввязался горячо. Волошинскую непоследовательность объяснили склонностью ко всяческим рискованным предприятиям, свойствами нетерпеливой, кипящей натуры.
Между тем дело на сей раз было не в характере, не в склонностях бывшего черногорского партизана. Дениса вдруг осенило, что Михайлов если и избежит смертной казни, то не избежит Алексеевского равелина. И как только Денис подумал об этом, он сам напросился в подручные Желябову и стал захаживать в угловой дом на Малой Пушкарской, благо, дом этот был неподалеку от меблирашек, где Денис снял комнату накануне Нового года.
В угловом доме на Малой Пушкарской жили двое солдат, двое нижних чинов, недавно уволенные в запас, – Кузнецов Тимофей и Штырлов Иван. Одному надо было вертаться в Архангельскую губернию, другому – во Владимирскую. Но оба остались в Питере. Ведь об этом «сам» просил. Солдаты редко говорили: «Нечаев» – «сам», «они» или «наш орел».
Денис застал одного Кузнецова. Тот бруском-гладилкой лощил ребро подошвы. В полутемной комнате, выходившей оконцами в узенький дворик-колодец, пахло клеем, кожевенным товаром. Бывшие солдаты промышляли сапожным ремеслом. Ну и захаживать к ним по сему случаю было весьма способно: в Питере-то, известно, подметки так и горят.
– А! – обрадовался солдат. – Здравия желаю, ваше благородь.
– Ну вот, – усмехнулся Денис, – опять «благородие». Здравствуй, брат.
И Кузнецов со Штырловым, и те солдаты-равелинцы, что изредка наведывались на Пушкарскую, все они «благородили» Волошина. Он пробовал убедить их, что никогда не носил эполет, а солдаты посмеивались: «Нешто не видать? Стреляного воробья на мякине не проведешь!» И Денис махнул рукой. «Благородие» так «благородие». Да и приятно было втайне, что принимают его за военного.
– А мастер-то где? – спросил он. усаживаясь на табуретку.
– Да тут, ваше благородь, недалечко, у кульера одного работу брал. Ванюшка и понес.
Кузнецов был мужик тощий, белесый, рукастый, с жесткими морщинами на лице, выдубленном морозами и ветрами. Одет он был в мундиришко с залатанными обшлагами, в порты и валяные сапоги, купленные у татарина-старьевщика.
– Новости есть?
– Все, ваше благородь, в полной порядке. Как не быть? Почта у нас хватская.
Очередное письмецо Нечаева. Отчетливый, мелкий, ничем не примечательный почерк с легкой косиной вправо. Может, прислал второй план побега?
Тот, первый, годился лишь для театра: освободители в парадных генеральских и офицерских нарядах, непременно при орденах и в белых перчатках; объявление о низвержении императора Александра и воцарении наследника, именем которого, дескать… На сходке комитета Денис фыркнул: «Вот он, весь тут: эдакий Рокамболь!» И никто не возражал. Желябов грустно усмехнулся: «Ба-а-алет».
Очередную записку Нечаева, которая, быть может, содержала иной план побега оттуда, откуда еще никто не бежал, Волошин, свернув тугим жгутиком, упрятал за подкладку сюртука.
– Спасибо. Орехов принес, да? Молодец, спасибо. Теперь продолжим?
– Обождать бы, ваше благородь? С Ванюшей оно бы лучше. Чего я не так, он подважит, чего он – я. Чайку не желаешь, ваше благородь?
Попили чаю, а тут и Штырлов явился, мужчина плотный, крепко сшитый, с круглой облысевшей головою. Лицо его, уже обросшее после увольнения в запас жесткой бородою, хранило угрюмоватое выражение. Впрочем, на лицах почти всех старых служителей равелина лежало это угрюмое выражение, будто однажды задались они пасмурной думой, да так и не отдумали ее.
Стражников в равелин выискивали из рекрутов потемнее, позабитее, чтобы из берлог архангельских или вологодских, чтоб нелюдим, бирюк, молчальник. И вот таких-то медведей Нечаев, запертый в своем нумере, обратил не в сочувствующих, а в преданных помощников. И не пятерых, не шестерых, но всю команду, включая и жандармских унтер-офицеров.
Ну хорошо, думалось иногда Денису, капля и камень точит, пусть стражники тянут лямку почти арестантскую, пусть сердца у них в конце концов дрогнули при виде мученика, но все же поразительно, загадочно это обращение, это подчинение своей воле целой команды. Неграмотные пахари и лесорубы изменили присяге, а ведь понимают, что ждет их, коли дело откроется, – каторга, непременно каторга, и – как самая малость – арестантские роты, которые, говорят, покруче каторги. Обстоятельство, с одной стороны, радостное, размышлял Денис, ибо вот он, горючий материал революции, есть, имеется и даже среди тех, кто и в глаза не видывал ни одного пропагандиста, не говоря уж о кружках или газетах. Но с другой стороны… И Волошин все выспрашивал солдат, пытаясь уяснить «магнетизм» Нечаева. Мало-помалу понял отчасти: тут был сложный переплет. И бередящие солдатскую душу разговоры о земле и мужицкой недоле, и жаркая нечаевская вера в скорый на Руси мятеж, подобный разинскому или пугачевскому, и частые повторы, что за стенами крепости действуют могучие сотоварищи, и таинственные намеки, что вот, мол, за него, Нечаева, сам царский сын-наследник, и то, что он, Нечаев, не из простых… Смешение правды с неправдой. Дьявольская расчетливость. И даже шантаж, когда он внушал: «Все уж за меня, все. Один ты, дурак, ни богу свечка ни черту кочерга». И потом еще какая-то колдовская сила… Вот ведь спросил Денис одного, другого, третьего: «Отчего вы, ребята, что ни скажет Сергей Геннадиевич, хорошо исполняете?» Отвечают: «А попробуй поперек: та-ак глянет, душа займется!»