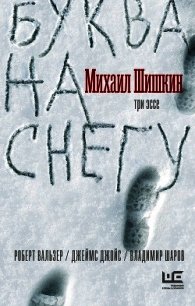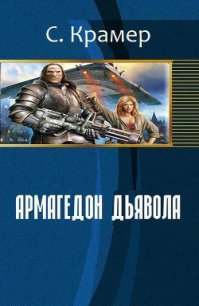Взятие Измаила - Шишкин Михаил Павлович (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
– Что ты такое мелешь? – прервал я Соловьева и только теперь заметил, что он уже был пьян.
– Тебе нужен не брак, а случка! – сказал он. – Тебе нельзя доверять такого человека, как Катя.
Понятно, подумал я, этот тип просто завидует мне.
– Да ты, кажется, в нее влюблен, животное? – засмеялся я, чтобы обратить весь этот разговор, действовавший мне на нервы, в шутку.
Он как-то странно посмотрел на меня. Продолжить нам не удалось, появились шумной гурьбой мои товарищи, большинство из которых я в глубине души или не любил или презирал, и, наверно, они платили мне тем же, но все это не играло тогда никакой роли и не мешало нам быть товарищами.
Сели пить и есть. Вспоминали университетское, юношеские проделки. Вспомнили, как я, готовясь к экзамену, обрил себе, по-демосфеновски, полголовы. Вспомнили, как, дурачась, дали объявление, что нужна молодая сиделка к старой женщине, и как по объявлению пришла какая-то хромоножка, забитая и запуганная, она все протягивала нам вырезку из газеты, не понимая, кто мы и почему умираем с хохота. Все воспоминания были в таком же духе. По-настоящему веселья на мальчишнике не было, во всем чувствовалась какая-то неловкость, поэтому старались побольше выпить, чтобы освободить себя от нее.
Так часто бывает: где думают много смеяться, отчего-то веет скукой. Да еще все время был слышен пьяный мужской хохот за стеной и девичье повизгивание.
Стали пить водку. Потом кто-то сказал, что не хватает треска. Так и сказал, по-моему, это был тот же Соловьев:
– Не хватает треска, скопцы! Последний вечер свободы должен быть проведен с треском!
Идея провести вечер с треском всем очень понравилась, все загалдели, закричали – выпили уже немало. Вызвали посыльного ресторана и отправили его за девочками со строгим приказом привезти только молодых, хорошеньких и веселых.
Мне казалось, что все это шутка, грубая, мужская, как полагается на мальчишнике, и что все этим и кончится, и я тоже громко кричал, что нам только молодых и веселых.
Посыльный, тощий вихрастый хохол, развращенный мальчишка лет шестнадцати, понимающе ухмыльнулся:
– Будьте покойны – доставим перши сорт!
Все хохотали и повторяли:
– Перши сорт! Умора! Перши сорт!
Вскоре, действительно, дверь приоткрылась, и в кабинет робко вошли какие-то затасканные девицы не первой молодости, которые совершенно обомлели и растерялись при виде роскошно одетых молодых людей, дорогой сервировки, зеркал, электрических люстр. Мне показалось, что и это все еще шутка и что мы вдоволь сейчас похохочем над этими неопрятными задастыми размалеванными существами, заплатим им, допустим, по десятке и отпустим с Богом, но Соловьев вскочил со своего стула и рассеял минуту замешательства тем, что стал с наигранным почтением распределять барышень.
– А вот вас, голубушка, – он взял под локоток рябую, чуть косившую, с дряблой, несвежей кожей девку, – мы посадим на коленочки к самому жениху!
И под всеобщий вопль восторга она уселась мне на колени, тут же обвив мою шею руками и поцеловав меня в губы, я даже не успел отвернуться.
Мальчишник пошел несравнимо веселее. Гостьи не скупились на ласки и поцелуи, охотно позволяя расстегнуть блузки. Быстро сделалось жарко. Моя избранница набросилась на закуски, персики и виноград, жадно поедая все, что было на столе. Пожирала, напихивая полный рот. Я хотел как-то спихнуть ее с себя, схватил за талию, чтобы поднять, а она поняла меня по-своему и одной рукой стала расстегивать на спине платье, а другой все запихивала виноградины в рот.
Я видел, как Соловьев, усевшийся со своей избранницей на диван и уже наполовину раздевший ее, целовал обвислые груди, прижался к ним лицом, потом ухом, затем другим ухом и вдруг сказал:
– Затронуты оба легкие…
Я с ужасом почувствовал, что пьян, и все окружающее приобретало вид странного неуклюжего сна, который вызывает ужас и гадливость, но которому не удивляешься.
Лиза, кажется, ее звали Лиза, хотя представилась она сначала как-то по-другому, давала мне пить из своего стакана, кусала за мочку уха, лезла в ушную раковину кончиком языка, слюнявила, будто хотела высосать через ухо мозг. Было щекотно, я ежился, отпихивал ее, вытирал платком ухо. Она заливалась смехом и снова лезла ко мне языком. Она без перерыва хохотала, отвечая идиотским хохотом на все вопросы и попытки заговорить.
В комнате стало совсем душно, нечем было дышать. Облако дыма мешалось с облаком духов. Избранница Соловьева, вырвавшись из его объятий, взяла со стола бутылку шампанского и хотела отпить прямо из горлышка – тут у нее выросла белая пузырчатая борода. Теперь уже и из нашего кабинета разносились на весь ресторан пьяный мужской хохот и женские визги.
Я целый день ничего не ел, и, наверно, оттого, что пил натощак, меня так быстро развезло. Ни с того ни с сего на меня напала какая-то злоба, совершенно баранья ярость. Злоба и на Соловьева с его дурацкими разговорами, и на эту Лизу, которая все норовила залезть рукой, сладкой и мокрой от винограда, мне в ширинку.
Я уже плохо соображал. Мир продирался ко мне через плотную полупрозрачную пелену. Я опрокинул в себя еще подряд две рюмки водки и с пьяным остервенением набросился на сидевшее на мне горячее тело, стал его целовать, кусать в мягкую прослойку жира на рябой спине, мять жидкие, кисельные груди. Лиза завизжала, вскочила, стала бегать от меня вокруг стола, заливаясь смехом. Я бросился за ней. Все кругом что-то орали, хохотали, хлопали в ладоши, улюлюкали. Кто-то из дам подставил ей ножку, она упала на ковер. Я бросился на нее, задрал ей юбку, под которой ничего больше не оказалось, никакого белья.
Я был в хмельном ослеплении, совершенно не понимал, что я делаю, где я нахожусь, что происходит. И вообще, этот человек на полу, боровшийся с рябой косоглазой девкой с пахучим межножием, не был мной, это кто-то другой, чужой, мне совершенно не знакомый, ерзал между ее мокрых от пота рыхлых бедер.
Потом я плохо что помню. Кажется, я пил еще, а затем меня уложили тут же в комнате на диван.
Не знаю, через сколько времени я очнулся. Кто-то лежал на диване, кто-то на полу, кто-то заснул прямо за столом. Девок уже не было. Меня мутило. Я вскочил и хотел бежать в уборную.
– А, это ты? – сказал чей-то голос. Я обернулся. У окна стоял Соловьев, почему-то со спущенными штанами и закапывал себе что-то из пипетки.
Кое-как я добрался до дома и отлеживался целый день. Голова раскалывалась, желудок извергал из себя все.
В тот день мы должны были еще встретиться с Катей – пришлось телефонировать ей в университет и просить передать, что я прийти не смогу – срочные дела в суде.
Вечером, когда я пошел в уборную помочиться, почувствовал неприятный зуд и щекотание. Присмотрелся – сероватые отделения. Меня охватило неприятное предчувствие. Ночью при мочеиспускании – резь. Все воспалилось, все время зуд. Уже никакого сомнения у меня не было. Наличествовали все симптомы – частые болезненные позывы, жжение и боль в канале. На другое утро полезла какая-то слизь. Я ничего не мог есть, меня бил озноб. Все это было чудовищно и совершенно невозможно.
Никогда в жизни я себя так не презирал. Меня раздавило, расплющило, истерло в грязь. И надо было всему этому случиться буквально накануне венчания! Одна мысль, что об этом узнает Катя, уже сводила меня с ума. Это было абсолютно недопустимо, немыслимо. Я решил, что лучше удавлюсь, но не допущу такого унижения. Биться головой о стену не помогало – нужно было что-то делать. Я бросился к Соловьеву.
Тот осмотрел меня и похлопал по плечу:
– Поздравляю вас, юноша! Эпикур страдал от этого всю жизнь и умер, покончив с собой в ванне после двух недель мучений – не мог помочиться.
При этом он криво ухмылялся и не скрывал облегчения, которое испытывал от того, что не заразился сам.
Он взял у меня зеленоватый гной и, капнув на стеклышко, сунул под микроскоп. Нагнулся, вложив глаза в окуляры.
– Хочешь посмотреть – вот они, гонококки!