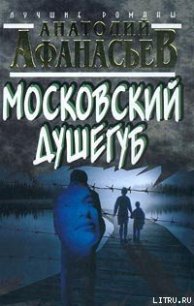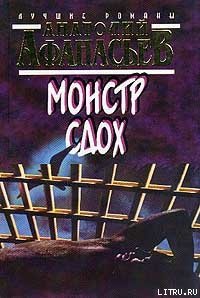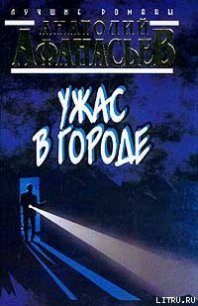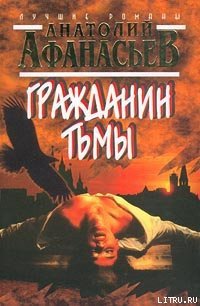...И помни обо мне(Повесть об Иване Сухинове ) - Афанасьев Анатолий Владимирович
— Купец, если разобраться, первая опора государству, потому от него в казну чистая прибыль идет. И в чужих странах он связи имеет. Снова выгода.
— Я купцов чту, — ответил Сухинов. — Как-то в позапрошлом году у одного в долг взял, так он меня потом чуть под суд не подвел. Поневоле зауважаешь.
Бочаров меленько захихикал.
— Рот не разевай, а как же!
— Чего ж ты-то в купцах не остался, сюда прибыл?
— У меня нрав не купецкий. Строгости и порядка во мне нету. Я вольную волю люблю, чтобы земля под ногами ходуном ходила. И-эх! Бывало, закутишь, закрутишь — только червонцы отстегиваешь да сотенные. Сколь я деньжищ на дым пустил, вспомнить жуть. И не жалею. Я хоть пожил… Самые лакомые куски мои были, самые сладкие девки постель грели. А вот ему, Пашке, чего вспомнить? Как в карауле стоял да за офицериками блевотину вылизывал?
— Не доживешь ты, Стручок, до окончания срока, — благодушно молвил Голиков. — Так или иначе, а не доживешь. Очень у тебя язык поганый.
Сухинов еще налил дружкам по стопочке. Подождал, пока они похрустели картохами. Угостил и табачком.
— Говоришь, волю любишь? Должно, тяжело тебе здесь находиться?
Бочаров впервые остро глянул в глаза Сухинов у, поискал там чего-то для себя.
— Верно, тяжело. Надо терпеть. Куда денешься…
— Некоторые деваются.
— Из некоторых мыло варют.
Голиков сказал:
— У тебя, Сухина, если есть чего предложить, предлагай смело. Васька, конечно, сволочь, но продавать не побежит. Смысла ему нету. А во мне, Сухина, столько злобы накипело, что, если ее не выплесну, — все одно сгину. Задушит меня злоба. Я вот иду, а навстречу надзиратель. Так я чего делаю. Я отворочусь и молитву шепчу, чтобы его не видеть. Потому во мне каждая жилка требует: раздави гаденыша. Подойди, Паша, раздави змея. Ты мне, Сухина, приглянулся, и я тебе верю. Потому об этом говорю. Я бы за тобой пошел. Сам я сослепу только дров наломаю без пользы.
Бочаров разволновался от неожиданного поворота разговора, крякнул, с горечью поглядел на пустой штоф.
— Я ведь не купец, — сказал Сухинов Голикову. — Мне одному воля без нужды. Ты посмотри, Павел, сколь людей вокруг страдает. И сколь среди них невинных. Значит, как — себе добыть волю, а их оставить? Это по-божески разве будет?
— Вона! — неожиданно разозлился Бочаров. — Люди! Где они? Одному воля нужна, как хлеб, а другому — в норе жить самая радость. И бога ты зря помянул, барин! Бог и сам одних для простора предназначает, а других для нор. Так испокон веку было. Не нам, грешным, менять… Ты вот пробовал в это божье предначертание своей дланью вмешаться — что вышло? А?!
— И кто же будет решать — кому в норе, а кому на воле? Уж не ты ли, Бочаров?
— Он, он, — подтвердил Голиков. — Он и за бога и за дьявола может управиться. Но скоро я его урезоню.
— Пустая брехня! — крикнул Бочаров вне себя. Видно, задело его за живое. — Язык почесать каждый здоров. Ты, барин, об людях такой заботливый, тогда купи еще штоф. Нажраться хочу! От вашего пустозвонства в глотке пересохло.
— На! — сказал Сухинов, протягивая деньги. Бочаров скоренько побежал в питейный дом. Двое остались на полянке, курили, мерзли, молчали. Сухинов думал, как это удивительно выходит, что благородный Соловьев и хитрющий каторжник рассуждают почти одинаково. Не люди вокруг — и все тут. Навоз для удобрения сибирской земли. Это что же такое? Почему? На какой дикой мысли сошлись обе стороны? Но если они правы, тогда и царь прав во всем. Он добросовестно выполняет свою миссию и следит за тем, чтобы людишки, ему подвластные, были строго рассортированы. Те же, кто мешает ему заниматься столь необходимым делом и вносит неразбериху, — те, разумеется, преступники. Вот и с царем Бочаров нашел бы общий язык, сведи их невероятные обстоятельства для беседы. «Ну что, Васька, — спросил бы царь, — ты согласен со мной, что есть подлый род и есть род благородный?» «А как же! — обрадовался бы Бочаров. — Купцы и дворяне — это одно, а крестьяне и разные солдатики — совсем другое».
Сухинов загрустил.
— Скажи, Голиков, что ты обо всем этом думаешь? Действительно, надо чтобы каждый за себя болел, свое брюхо спасал?
— Ничего не думаю, Сухина! Я когда в солдатах был, надумался. До сих пор в груди жжет… Меня люди боятся, правильно делают. Я и сам себе ныне страшен. Не всегда так было. Я в фельдфебелях ходил, никого не задевал. Старался по справедливости обходиться, о солдатах заботу имел. И что? Нету, видать, справедливости на белом свете, вся она за казну откуплена богатенькими. Мужику-трудяге защиты нету. Может, и верно каркает Стручок. Только мне, когда его карканье слышу, так и хочется ему мосол в глотку вогнать, чтобы он подавился, тварь поганая!
— Это правда, что ты недавно в руднике человека убил ни за что?
Голиков поднял бровь, глаз у него один раскрылся до невыносимой голубизны. В глазу было предостережение Сухинову. Но не угроза.
— Убил. Правда. И второй бы раз убил. Давно случая ждал расплющить этого таракана. Вот он мне и попался под горячую руку. Он у своих последние крохи крал. И в контору зачастил. Нет, я его не так убил, как ты говоришь. Я его предупредил, сказал ему: «Еще раз в контору нырнешь — кишки на палец намотаю!» Он не поверил, побежал доносить. Сам виноват.
— Жесток ты чрезвычайно, Паша. Придет время, совесть тебя заест. Исковеркали тебя, и ты поддался. Но совесть в тебе жива, я вижу.
— Сухина, Сухина, не простой ты человек и знаешь много. Но сердце у тебя детское, доверчивое. Настоящего зла ты не видел. Ты, если чего надо, мне говори, Ваське не говори. Я все тебе сделаю и во всем пособлю.
— Ружьишко можешь достать? — Сухинов заранее решил про ружье спросить — первый шар в лузу. Голиков не удивился ничуть.
— Почему не достать. За вознаграждение все достать можно.
— Сколько надо?
— Давай пока три рубля. — Сухинов отдал деньги, и только Голиков успел их спрятать, из-за деревьев неслышно возник Бочаров. То ли он нарочно крался, то ли шаг у него такой был, легкий, рысий. Бочаров принес штоф, в котором трети не хватало. Стал их звать в питейный дом. Будто там весело, а тут холодно. Ему на месте не стоялось, он неловкость чувствовал. И не зря.
— Ты как же это, гад, посмел полбутылки ошарашить? — подступил к нему Голиков, даже и без особого раздражения, а словно не умея до конца поверить в случившееся несчастье.
— Святой крест! — торжественно сказал Бочаров, отступая к березам. — Проверь и пойми! Встретил тезку своего, Ваську Михайлова. Стоит он, забубенная душа, и, как тростинку, его качает. Умолил. Дай мне, говорит, Вася, глоток глотнуть, а то помру немедля. Я его пожалел. Прежде бы не пожалел, а тут вот барина наслухался, что, мол, все люди братья, — и налил. Такая во мне вдруг жалость образовалась в грудях, чуть исподнее с себя не снял.
— Врешь! Сам выжрал.
— Пойдем в кабак, проверишь. Он там.
Голиков все приближался к Ваське, а тот шустро отступал, они отдалились от пораженного Сухинова шагов на десять, он уже и слышал их плохо.
— Эй! — гаркнул он командирским голосом. — Кончай дурить! Слышь, кому говорю!
Голиков вернулся со штофом. Бочаров маячил меж деревьев серым пятном. Шумел оттуда капризно:
— Поди проверь! Ежели все люди — то почему не налить. Правильно, барин? Объясни ему.
— Если хочешь со мной быть, брось разбойничать! — сказал Сухинов, негодуя.
— Я к тебе в слуги пока не нанимался! — взъярился Голиков. Не мог он быстро остыть.
— Я тебя, Паша, не в слуги зову, в товарищи!
Голиков запрокинул голову и вылил себе в рот все, что было в штофе. Потом размахнулся и швырнул бутыль в Бочарова. Если бы попал лоб — конец Стручку. Промахнулся. Утер рот, сказал дружелюбно:
— За то, что в товарищи кличешь, — благодарю! До самого края за тобой пойду. Верь мне!
— Верю! — Сухинов протянул каторжнику руку, тот не сразу ее принял. Его лапа была в три раза больше сухиновской, но пожатие было бережное, ласковое.