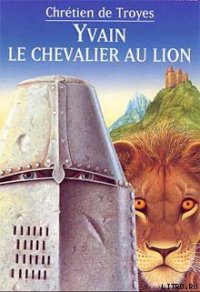Южане куртуазнее северян (СИ) - Дубинин Антон (мир бесплатных книг .txt) 📗
Да, и парижскому жаргону он научился. Матье и Клод звали его пить, а он отговаривался тем, что старина Овидий ждет. Он уже и сам мог сколь угодно потолковать о «кривляке Марциане» и «умнице Храбане», и хотя по-прежнему был совсем один, его это более не угнетало. Весна, сменившая зиму, несла обновление, и новый человек, сменивший старого, кажется, оказывался человеком ученым.
Пришествие весны и утверждение в школярском звании ознаменовалось для юноши двумя вещами — он постриг волосы на новый лад, короче, чем стригся дома в Труа — по мочки ушей, кружком, и еще — научился разговаривать с самим собой.
Стригся он хозяйскими ножницами перед хозяйским же зеркалом — не привозным, сарацинским, как у знатных дам или богачей, а простым, металлическим, порядком исцарапанным. Стрижка получилась соответствующая — кривоватая; в который раз позавидуешь людям с вьющимися волосами — их как ни постриги, все кажется ровно… А разговоры с собой начались как-то незаметно, с обращения к своему телу утром — «Вставай, ленивая свинья», и вошли в привычку так крепко, что юноша себя то поругивал, то понукал, то одобрял, как младшего, любимого, но надоедливого родственника. Самое странное, что по имени он себя при этом не называл — просто «Эй, ты». Непонятно, откуда шла эта привычка — может быть, от одиночества; но одиночество почему-то не казалось бедой, скорее просто — таким вот положением дел. Теперь, если бы Алена спросили, одинок ли он, он бы похлопал глазами и переспросил: «Кто, я? А, ну, да… Наверное». Как-то так получилось, что он воспринимал себя со стороны, а изнутри не обращал на собственную личность никакого внимания.
Первый диспут, доставшийся Алену лично, пришелся на конец апреля. Весна выдалась прекрасная — даже в грязноватом Париже; запах весны неуничтожим, он проникал во все подвалы и дыры, и наполнял маленькое помещение школы, окна которой были теперь открыты, а солома выметена. Больше всего Ален боялся «кводлибета» — диспута «о чем угодно», но ему повезло, магистр выделил ему вполне определенную тему, хотя и несколько странную. Ален должен был спорить со всем миром о том, может ли в одной комнате в один момент времени поместиться более одного ангела.
Над этим вопросом, пытаясь выявить собственное отношение к нему, юноша промучился всю ночь. Потом решил все-таки отстаивать точку зрения, что да, может — в комнате не в комнате, а на одном… ну… облаке их являлось по нескольку, если вспомнить хотя бы Откровение и четырех зверей Евангельских — которые со всей очевидностью были херувимы. Кроме того, Алену наутро было настолько наплевать на предстоящий диспут, насколько это только может быть невыспавшемуся человеку — и, может быть, именно потому свое задание он выполнил с блеском. Пьер-Бенуа при всех обнял его и назвал своим лучшим учеником, и Ален почувствовал, как теплеет и делается влажно у него в глазах, и судьба довольно гадко усмехнулась, решив, что настал самый подходящий момент для крушения иллюзий.
…Домой они возвращались вдвоем с магистром. По пути зашли в кабак и купили большую, оплетенную соломой бутыль вина. Запах весны в синеющем воздухе и бессонная ночь в сочетании друг с другом кружили голову так, что Ален почти растворялся. Дома они сразу поднялись к Пьеру-Бенуа, чтобы, по обычаю, заняться Овидием — но Ален был совершенно уверен в душе, что Овидием они заниматься сегодня не будут. Что ж поделаешь, либо Овидий — либо пузатый кувшин пива и ужин, которые попросил подать им наверх тоже хмельной, тоже опьяненный успехом магистр.
Они пили по очереди, из одной чашки, сначала — вино, потом — пиво, потом — опять вино, только уже, кажется, какое-то другое. Алена подташнивало, весною пахло невыносимо сильно — уже отовсюду, из окна (кажется, закрытого), за которым горела огромная, рассыпающая лучи в его слабых глазах золотистая звезда, из винной глиняной чашки, от Пьера-Бенуа, сидевшего рядом на полу (они оба сидели уже не за столом, а возле кровати, на плешивой коричневой шкуре) и обнимавшего его за плечо. Ален видел совсем перед глазами его порхающую, двоящуюся белую руку — и размеренно кивал, улыбаясь, как дурак, на смутный ропот, исходящий из наставниковых уст.
Иногда из ропота вываливались знакомые слова. Но это было неважно, важно было другое — что вот он сидит рядом, такой добрый, прекрасный, всепонимающий человек, и голос у него такой ласковый, прямо как у отца — и слезы подступили куда-то совсем близко к глазам, и Ален, качнув головой еще раз (кажется, она качнулась сама), с удивлением услышал свой собственный голос, доносившийся словно бы издалека. И, прислушиваясь, он понял, что говорит про Этьенета.
Он отследил два слова, сказанных с болью и жаром пьяного — «братик» и «матушка». Непонятно, доходило ли сказанное — кажется, оно было порядком бессвязным — до разума собеседника, но карие глаза его, теплые, невыносимо теплые, понимающие все на свете, смотрели в Аленовы — серые, затуманившиеся, мальчишка первый раз в жизни напился, вот это да, посмотрите-ка на него, пьяный дурак, ну и что, ну и пускай, пускай… Пьер-Бенуа сочувственно кивнул и провел ладонью — гладкой, ласковой — по щеке Алена, стирая катившуюся длинную слезу. Ален сморгнул и сбился — что-то в этом жесте было смутно не то, что-то, заставившее слегка отдернуться сквозь поволоку хмеля.
— Ну, мальчик мой… Мой лучший ученик… Что же ты, продолжай.
Ален глупо помолчал, пытаясь вспомнить, о чем же это он так убедительно говорил. Кажется, на что-то жаловался. Но на что?.. И… Зачем все это?.. Господи, я, кажется, напился. Наверное, все это зря.
— Я… кажется, напился, — неуверенно сказал он, чуть сдвигая тоненькие брови, силясь понять, что здесь происходит и почему, и что в происходящем не так. Он на миг слегка увидел себя со стороны, причем увидел откуда-то не отсюда, а словно бы издалека, из Шампани или из Святой Земли — мальчик спал у потухшего костра, завернувшись в рваные тряпки, и снился ему юноша, сидящий в чужой земле, в чужом городе, в чужой комнате, на полу у низкой кровати, и кто-то чужой обнимал его одной рукою за плечи, а другой… вот… снова поглаживал по лицу.
— Вовсе нет, мальчик мой. Ты вовсе не пьян. Не волнуйся.
— Магистер… Пу…стите. Я спать пойду.
— Не волнуйся, — повторил Пьер-Бенуа очень вкрадчиво, и Алену вдруг стало неприятно. Может, даже страшновато. За окном почти совсем стемнело, бледное пятно наставникова лица смутно плавало перед глазами. Черты его тоже плыли, менялись… Словно перетекали во что-то. Рука его, почему-то холодная, скользнула по плечам вниз, и, трезвея от дурноты, Ален понял, что эта рука лезет к нему под рубашку.
— Пустите! — повторил он уже громко, отстраняясь — и тут произошло что-то совсем уж дикое, такое, что он на миг разучился шевелиться: Пьер-Бенуа второй ладонью зажал ему рот. Ален почувствовал губами вкус его кожи — солоноватый, влажный. Наверное, как устрица.
Происходящее было настолько невероятно и гадко, что он совсем оцепенел. Хмель, стремительно выгорая изнутри, легким огнем опалял глаза, и если бы не кожа, не то, что она ясно чувствовала, глазам и плывущему слуху можно было бы и не верить.
Пьер-Бенуа, почтенный мэтр диалектики, валил своего ученика лицом на шкуру, рука его, ползущая под одежду, по животу, была холодной и слегка липкой. Ален, с завесившими взор полосками волос, рванулся — и ужас его походил на тот, который ненавидящий пауков человек испытывает, когда жирная восьминогая тварь откуда-то сверху шлепается ему на лицо.
Губы наставника, что-то шепчущие, приговаривающие, шевелились в безумной близости от Аленова лица. Обрывки фраз — «Ты мой лучший ученик… Не волнуйся, все будет хорошо…» И еще что-то совсем уж дикое — про Платона и Сократа, про мудрых эллинов, и какой-то Ганимед, и какие-то Академики… Все-таки, чтобы не спятить окончательно, ослабевший от гадливого ужаса Ален сделал это — он извернулся, выдергивая из-под себя прижатую к полу руку, и изо всех нашедшихся сил ударил куда-то в бледное, извергающее слова пятно.