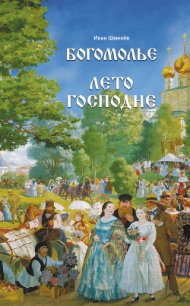Солнце мертвых - Шмелев Иван Сергеевич (читать полную версию книги .TXT) 📗
ПУСТЫНЯ
А что Тамарка?..
Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.
Громыхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.
— Ку-ддааа?!..
Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает…
— На-ззад!!..
Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.
Вот он, наш огородик… жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам…
А для чего все это!? Это убивает мысли.
Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки… Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы… Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький, скромный, тихий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины
— надо до осенних дождей поправить. Придут дожди… Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.
Бурей задрало железо — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо… И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, — выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку… Хорошо иметь старое железо!
Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!
Далеко внизу — беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешиной Чатырдаг синеет, Палат-Гора… Там седловина перевала… выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских…
Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — «Свете тихий»… Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе — и увидишь… Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!
И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный… Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы: — Эй!.. отходи подале!..
И на штыке солнышко играет.
Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь… не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце…
Обманчиво-хороши сады, обманчивы виноградники! Заброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки… повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы…
Я вижу тайную их улыбку — улыбку камня…
Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.
Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю… А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга…
Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.
— Ступай же… нету!..
Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин…
И я не могу понять, Тамарка… Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..
В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и… смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.
Смотрю и я… Сколько хочешь смотри — и так, и этак.
Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев — всех побил-потопил в славном турецком море.
Пошептывают прижухнувшиеся татары:
— Це-це-це… Кемал-Паша! Крым идет… пылымот стрылят, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк… баряшка будыт… Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт…
Вправо — Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов…
Влево, в утренней дымке, — земля родная, кровью святой политая…
Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения… Одна голубая парча — на солнце.
Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти… Съедено, выпито, выбито — все. Иссякло.