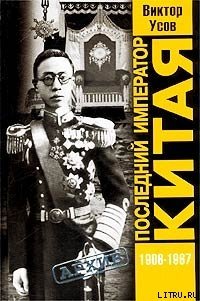ПОД НЕМЦАМИ. Воспоминания, свидетельства, документы - Александров Кирилл Михайлович (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
Милая Анна Захаровна, супруга Федора Козубовского, гордая заслуженной популярностью своего супруга, ходила с задранным носиком, была весела и приветлива с окружающими, будучи уверена, что в жизни ей повезло, что мужу путь в академики открыт и гладок. Да так бы и быть должно было. Но кто-то всесильный думал иначе. Прилепили красному партизану, «чапаевцу», ярлык «враг народа», забрали его года за два до ареста моего отца, бывшего белогвардейца, поповича и т. д. «Окончен бал, потухли свечи». Больше ни Анна Захаровна, ни ее прекрасные сыновья, Витька и Славка, друзья моего детства, никогда мужа и отца не увидели. Лишь после смерти [неразборчиво] сообщили [неразборчиво] репрессированного, как и многим-многим другим подобным, что умер он в тюрьме от воспаления мозгов и реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления. Сыну «врага народа» дорога для поступления в Морское училище была закрыта. Но он был искренне рад за меня, своего любимого друга, так как ко времени моего поступления отец мой был уже отпущен на «покаяние» и я смог ехать в Херсон и готовиться быть моряком дальнего плавания.
Витюшка подарил мне свою фотографию, где он был сфотографирован в моем морском кителе, с надписью: «Если будешь утомлен борьбой или заброшен судьбой, не унывай… В дали сверкает юг, а вот и верный Виктор-друг». Спасибо, Витюшка, друг ты мой родной… Я и сейчас еще глотаю слезы от переполняющего сердце мое чувства благодарности за твою искреннюю, бескорыстную любовь ко мне. Мне удалось еще раз в жизни убедиться в его чувствах: в 1959 году, когда я после отбытия десяти лет сталинской каторги посетил Витюшку и был так ласково принят и тобой, Витя, и мамой твоей, Анной Захаровной, и братом, Ярославом Федоровичем Козубовским, хотя это было очень опасно в то время. Да хранит вас Бог, дорогие друзья, хоть на этом или на том свете!
Для полноты понимания красоты Витюшкиной души хочется мне коротко рассказать один характерный случай из времен нашего детства. Этот момент я всегда вспоминаю с умилением, когда вдруг начинаю думать о нем. Как-то, будучи под впечатлением от чего-то прочитанного, я высказал в дружеском откровении мысль о том, что при настоящей любви человек любит сильнее, чем себя самого, и бывает счастлив счастьем любимого им человека. Витюшка, как видно, думая об этом, после нашего разговора спросил меня, краснея от смущения: «А как ты думаешь, можно маму свою любить такой большой настоящей любовью — больше самого себя?» Не помню, что я тогда ответил, да это и не так важно, я думал.
Так вот, стоя у моей кровати и дергая меня за ногу, Витюшке удалось оторвать меня от приятных сновидений.
— Вставай, принц! Недопустимо просыпать сейчас часы, настало такое время, когда каждый его момент принадлежит истории.
— Ну, Пантелей, ты даешь, как поешь, а поешь неважно, — отшутился я и стал быстро одеваться, внутренне согласный с доводами друга.
Пока я собирался, Витюшка рассказывал мне о том, что наш товарищ Иван Сакунок, оказывается, не пошел в армию, как все думали, а вот после двухмесячной спячки под кроватью вылез на свет Божий и ждет нас внизу во дворе. Так оно и оказалось. Во дворе я увидел и Ивана, и с ним весело беседовавшего Толю Клёца — мальчика моих лет, оставшегося полным сиротой, т. к. родителей его, интеллигентных евреев, приехавших в 1939 году из захваченного Львова, арестовали. Бабушка Толи умерла от горя, а старший брат Беньямин уехал в начале войны в командировку в Туркмению и еще не вернулся. Судьба Толика в дальнейшем — это настолько очевидное чудо, что мне хочется при первой возможности рассказать о ней.
Как я уже говорил, Толик был польским евреем, и внешность его при первом взгляде не вызывала сомнения в этом. Его черные кучерявые волосы, большие печальные глаза с длинными ресницами, как у девочки, нос с характерной горбинкой и даже «музыкальные» уши свидетельствовали так убедительно не в его пользу во время немецкой оккупации, что, казалось, ему неминуемо и неизбежно суждено было после первого появления на улице разделить трагическую судьбу тысяч его одноплеменников, вписавшую в историю Германии черную страницу. Но что человеку невозможно, то Богу возможно, и Он сохранил Толика Клёца. Сбылась воля Его! Невзирая на предостережения доброжелателей, Толик ходил часто на базар, чтобы что-нибудь продать или перепродать, чтобы купить себе необходимые съестные припасы. Если и бывал он несколько раз задержан полицейскими, то всегда благополучно отпускался, так как находились люди, свидетельствующие своими подписями о том, что Толик не еврей. Трижды это делал и я. Толик остался жив.
Тогда же, во второй день оккупации, мы еще ничего не знали, как говорится, ни слухом, ни духом о грозящей опасности. Даже в советской прессе ничего не говорилось об этом конкретного. Если и были какие-то неопределенные упоминания о погромах в Германии в 1930-е годы, то, приученные к постоянной лжи и демагогии, читатели просто не верили этому [290]. Мы вчетвером со спокойной совестью пошли в город. По дороге замечали происшедшие за один день перемены; от этого было и грустно, и радостно. Мы дошли до нашего любимого Пролетарского, бывшего Купеческого, парка. Туда мы часто хаживали, чтобы людей посмотреть и себя показать.
Улицы, по которым мы бодро шагали, как «хозяева необъятной родины своей», выглядели не вполне обычно. Почти все витрины магазинов были разбиты, осколки стекла не убраны с тротуаров. Среди прохожих было много военных, но не в советских «хаки», а в зеленых немецких мундирах. Часто проезжали по мостовой или стояли у обочин тротуаров автомашины, легковые и грузовики, но не обычные советские «полуторки» или «трех-» и «пятитонки», а незнакомые нам марки европейских фирм всех образцов. Невольно чувствовалось их техническое превосходство.
Во многих местах перед гостиницами и учреждениями копошились немецкие солдаты, разгружая что-то и вселяясь в пустые дома. Все выглядело вполне мирно, даже погода — солнечная, теплая и безветренная — [не] предвещала никаких неожиданностей. Поднявшись по гранитным ступеням за несколько лет перед войной воздвигнутой лестницы с фонтанами, ведущей в парк, мы тут же уселись на удобную скамью, чтобы сверху вести обозрение нашего любимца, всегда многолюдного Крещатика. Так мы делали уже много раз и раньше, во времена внешне мирного, казалось бы, нерушимого, созданного, по мнению некоторых, мудро и справедливо, «под гениальным руководством великого кормчего» — вождя, отца и учителя — порядка. Мы, мальчишки тридцатых годов, называли его всегда с легкой усмешкой или коротко Ус, иногда — Усатый, иногда — Грузин, а в другие моменты и Людоед. Бывало, и возникали споры по этому поводу, но все это в нашей среде носило сравнительно мирный характер.
Мы уселись поудобнее на скамью. Вдруг оглушительный грохот недалеко от нас происшедшего взрыва потряс и землю, и воздух, и сердца ничего подобного не ожидающих людей — и наши в том числе. Посмотрев друг на друга широко открытыми от испуга и неожиданности глазами, не сговариваясь, [мы] бросились бежать вниз по лестнице по направлению к взрыву. Столб дыма, пыли и летящих сначала вверх, а через несколько мгновений вниз больших и малых камней возник в солнечном небе, превращая день в вечер. За первым взрывом [291] последовал второй, потом третий и т. д. Люди, шедшие по тротуару в противоположных направлениях, превратились в бегущую толпу, гонимую чувством страха и инстинктом самосохранения. Мы, мальчишки, бежали им навстречу, т. к. наше любопытство было сильнее страха. Мы желали собственным глазами увидеть, что случилось.
На месте, где несколько минут тому назад стояло огромное новое здание Центрального почтамта, вырисовывалась сквозь облако дыма и пыли бесформенная куча каменных глыб и стальных балок, согнутых в «бараний рог». Завалены обломками разрушенного здания были и тротуар, и проезжая часть улицы перед домом. Бегущие люди кричали что-то непонятное, указывая в сторону, откуда раздавались все новые взрывы. После взлета в воздух большущего дома Гинсбурга на Николаевской улице, гостиниц «Континенталь» [292] и «Красная звезда», где расположились штабы занявших город немецких войск, мы поняли, что весь центр города, по-видимому, заминирован оставившими город советскими войсками [293].