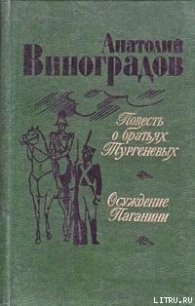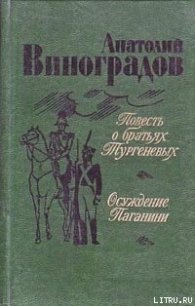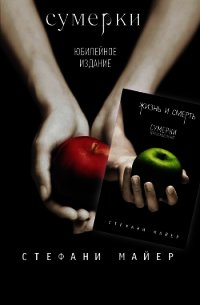Черный консул - Виноградов Анатолий Корнелиевич (серия книг TXT) 📗
— Ах, вы меня не понимаете! — сказал Лавуазье. — В феврале этого года меня снова призывали, предлагали занять должность директора Режи-де-Пудр, я отказался. Ну где мне быть директором пороховых заводов! Я продолжаю свою работу, но мне все труднее и труднее дышать.
Кабанис взял его за руку, нащупал пульс и сказал:
— Великий Гарвей говорил, что вполне можно обойтись с одной третью той крови, которая дана человеку. Сделайте себе кровопускание; посмотрите, как надулись жилы у вас на висках.
— Я не докончил, — сказал Лавуазье, не отнимая левой руки. — Комиссар секции произвел обыск в Арсенале, опечатал все мои документы, опечатал все мои научные работы, а без некоторых формул я не могу проделать самое интересное, что я считал делом своей жизни: плотность воды я считаю единицей веса, мы хотим установить универсальный метраж согласно природе. Великий Руссо учил, что она является нашей матерью, а нет ничего лучшего, как воздать должное виновникам своей жизни. Природа указывает новой Франции способ учредить новые меры.
— Как бы они не стали виновниками вашей смерти, — проворчал Кабанис. — У вас повышенное давление крови, сосуды полопались у вас в глазах, вы выглядите плохо.
— Так вот я говорю, — перебил его Лавуазье, — мой помощник Лефоше застрелился, это был невиннейший человек. Бумаги мои опечатаны. Как я могу перед началом нового века дать французам и всему человечеству новые единицы мер и веса?
— Я бы на вашем месте уехал.
— Что это поют? — вдруг вскочил Лавуазье.
— Как что? — со смехом сказал Кабанис. — Это боевая песня марсельского батальона. Офицер Руже де Лиль на фронте сочинил эту песню, Гретри написал на нее музыку, нежный Гретри, автор оперы «Ричард Львиное Сердце». Представьте себе, дорогой Лавуазье, это сочетание: юный офицер с лицом девушки и старый композитор, автор королевских пасторалей, музыкант во много раз лучше, нежели какие-нибудь нежнейшие и сладчайшие Рамо и Люлли, вдруг соединили свои голоса, чтобы сочинить вот этакую песню.
Волонтеры, проходившие мимо Арсенала, пели:
Вступаем мы в кровавый путь, Когда отцы в лучах денницы Принуждены навек уснуть, И мы украсим их гробницы,
И ночью мы найдем их след Сквозь бури лет и сквозь бураны Несем мы на алтарь побед Свободы лучший первоцвет.
Так трепещите же тираны!..
Лавуазье и Кабанис стояли у окна. Молодежь в новых мундирах, со штыками на ружьях громко пела; доносились еще слова:
Людовик — деспот кровожадный, Но вы сообщники Кондэ…
Кабанис улыбался маленькой, хитрой, лисьей улыбкой и говорил, успокаивая Лавуазье:
— Вот посмотрите, сочинил песню — и сам испугался. Я подробно знаю из Комитета двенадцати, что когда господин Карно приехал в Рейнскую армию и сообщил господам офицерам о низложении короля, тогда этот самый автор Марсельезы, красная девица Руже де Лиль, сорвал с себя эполеты и швырнул их в лицо генералу Карно.
— Ну и что же? — спросил оживленно Лавуазье.
— Что же, — повторил Кабанис, — что же? Убежал в штаб Дюмурье и потом скрылся в Эльзасе.
Лавуазье вдруг засмеялся:
— Ну, стоило ли писать такую песню?
Кабанис сказал:
— А стоит ли вам говорить о ваших формулах? Вы как будто очень взволнованы. Да что, вы в переписке с эмигрантами, что ли?
— Нет, — ответил Лавуазье, — я считаю это бесчестным, я сторонник революции, но меня беспокоит непонимание толпы.
Кабанис улыбнулся едко.
— А вы ее понимаете? — спросил он.
— Важно, чтобы она меня понимала, — ведь во мне французские интересы.
— А она думает — важно, чтобы вы ее понимали.
— Мы не сойдемся, — сказал Лавуазье.
— Ничего, сказал Кабанис. — Простите меня, старика: если вы не сойдетесь, вас сведет машина доктора Гильотэна, которую вчера неведомо кто построил на заре перед самым зданием Отель-де-Вилль.
Раздался стук, в дверь вошел слуга и сообщил:
— Господин Пинель.
Кабанис улыбнулся тонкой звериной улыбкой. Трудно было понять, смеются ли его глаза, или его губы складываются в усмешку. Видя колебания Лавуазье, он вдруг с лихорадочной быстротой заговорил:
— Слушайте, академик, примите его. Ведь это же страшно интересно! Если какой-нибудь господин Месмер оказался просто шарлатаном и сукиным сыном, то ведь Пинель — это же ведь гений перед ним, это же лучший лекарь заболевания духа!
Но Лавуазье и без агитации Кабаниса распорядился жестом принять Пинеля, которого очень уважал.
Пинель был у Лавуазье месяц тому назад. Он принес в пробирке тонкий белый порошок с просьбой дать качественный анализ этого странного зелья, только что привезенного с Антилий комиссаром Законодательного собрания Сантонаксом. Этот порошок был отобран у двух матросов, которые на палубе корабля «Артемида» в полубреду закололи капитана, скинули семерых матросов за борт, со страшной силой и бешеными криками захватили штурвал рулевого и компас в капитанской каюте и, выхватив шомпола мушкетонов, заклепали двенадцать орудий на борту корабля. Лавуазье больше не знал ничего. Пинель вкратце сообщил эти сведения и оставил состав у химика. Пинель вошел в комнату, где стояли Кабанис и Лавуазье. Пинель, очень спокойный, круглолицый, с улыбкой горечи, которая, опуская его губы, странно противоречила выражению веселых, почти смеющихся глаз, сказал:
— Ну вот, дорогой Лавуазье, я, кажется, не опоздал. Ко мне пришел некий пикардиец, господин Демулен из города Гизе, тупоумный старик и скряга, верноподданный его величества бывшего короля. У него все в голове перепуталось! И знаете, с чем он ко мне пришел?
Кабанис вежливо встал и, обращаясь к Пинелю, сказал.
— Я не помешаю великому лекарю души в беседе с великим знатоком вещества?
— О нет! — сказал Пинель. — В моей науке нет секретов. Чем больше фонарей светит в этот бездонный погреб, тем лучше.
— Так, — сказал Кабанис, — наука любит тайны.
— Наука любит свет, дорогой Кабанис, — вдруг отозвался Лавуазье. — Так что же, дорогой Пинель, — спросил он, — что привело к вам отца Камилла Демулена?
— Прежде всего, — спросил Пинель, — какой это Камилл Демулен? Это тот самый, который издавал «Революцию Франции и Брабанта»?
— Да, да, тот самый, — ответил Кабанис. — Все дело в том что этот юноша только что женился на богатейшей невесте Парижа Люсиль дю Плесси. Эрот яростно вмешался в политику, и мальчик Демулен не знает, оставаться ли верным революции, или своей жене, одной из прекраснейших женщин, которых я когда-нибудь видел.
— Да, они друг друга стоят, — сказал Лавуазье.
— Так Знаете, с чем явился этот старик отец? Он требовал, чтобы я властью начальника Сальпетриера и Бисетра, двух домов умалишенных, освидетельствовал его сына и признал его безумным матереубийцей.
— Как? — воскликнули оба, Лавуазье и Кабанис.
— Да так; старик сообщил, что в силу присоединения сына к партии мятежников, уничтожающей законную власть во Франции, его мать заболела и потеряла мензулы от испуга.
Кабанис засмеялся.
— Дважды женщина теряет мензулы: первый раз, когда ей нужно родить, второй раз, когда приходит климакс. Сколько же лет этой старухе?
— Не знаю, — улыбаясь, сказал Пинель. — Судя по возрасту мужа, и ей пора готовиться с покорностью к возрасту климактерии и не роптать на судьбу. Революция тут ни при чем. Я сказал сумасшедшему старику, что я не только не могу помочь в отвратительном деле объявления его сына безумным, но что я даже тех, кого безумие королевской власти посадило в дома умалишенных ради отобрания богатого наследства, и тех освободил и выпустил на волю. Я пригрозил ему революционным судом, я сказал ему, что он на плохой дороге. Если революция сбила цепи с третьего сословия, то я, психиатр Франции, впервые пошел в Бисетр, в больницы и тюрьмы, чтобы снять с несчастных душевнобольных цепи, наложенные преступниками и невеждами. Можете ли вы себе представить, что среди двухсот тридцати семи больных пятьдесят, закованных в цепи как безумные, оказались совершенно здоровыми. Их речь, их ясное сознание, их способность на все отвечать разумно показали мне, что истинные преступники — это те, кто осмелился надеть на них цепи.