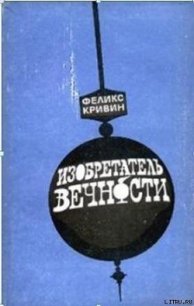Гладиаторы - Ерохин Олег (читать книги .TXT) 📗
С этими словами коварный грек протянул сенатору правую руку, с которой он предусмотрительно снял перчатку еще в коридоре. Аниций Цериал покрыл ее поцелуями, рассыпаясь в благодарностях, — перед ним забрезжил свет надежды.
Да, Каллист недаром напудрил свою правую руку ядовитым порошком!.. Повидав за свою богатую заговорами и их крушениями жизнь множество смертей, он прекрасно знал, что барахтающиеся в трясине отчаяния несчастливцы готовы ухватиться за любую соломинку, не задумываясь о том, не обернется ли эта соломинка ядовитой змеей…
Когда Каллист посчитал, что Аниций Цериал нализался достаточно яда, он оторвал свою милостливую руку от его алчущих губ — ведь оставшегося на ней порошка должно было хватить и для насыщения другого опасного заговорщика — Марка Орбелия. Обещание спасти Марка, данное Сарту, было обманом — хитрый грек не собирался ради дружбы египтянина и римлянина рисковать собственной жизнью.
Из камеры Цериала Каллист и тюремщики отправились прямо к Марку Орбелию.
Молодой римлянин дремал, прикрывшись плащом, который, однако, мало защищал от промозглой сырости подземелья. Теперь руки Марка были свободны — тюремщики, которым преторианцы передали его, внимательно проследили, как тюремный кузнец приковывал юношу за ноги к короткой цепи, закрепленной в стене, и после этого развязали его. Марк твердо знал, что ему надлежало делать дальше — терпеливо снести то, что ему предуготовила судьба, умолчав о том, что ему было известно о заговоре, чтобы не подвести Сарта. Утомленный происшедшими событиями, Марк, как только его оставили одного, задремал, или, вернее, забылся.
Молодого римлянина заставил очнуться чей-то насмешливый голос:
— Ого! Молодец, видно, не больно раскаивается в своем злодеянии — глядите-ка, как он спокойно посапывает, будто честный земледелец после целого дня работы!
Повернувшись на голос, Марк увидел худого римлянина в тоге — в нем он признал Каллиста (во дворце юноше довелось несколько раз видеть знаменитого вольноотпущенника), а в его спутниках по их темным плащам и подобострастным лицам он верно угадал тюремных служек.
Каллист заметил, что пленник пришел в себя, и продолжал:
— Молодой человек, по-видимому, слегка запамятовал о происшедшем, а может, его слишком хорошо вразумили мечом, так что спешу напомнить: ты покусился на жизнь принцепса и по римским законам заслуживаешь смерти.
— Смерть мы заслужили, родившись на свет. (Марк говорил медленно — усталость и удар давали о себе знать.) А вот то, какую жизнь мы заслужим, зависит лишь от нас самих — иная жизнь бывает хуже иной смерти.
Каллист усмехнулся.
— Скоро ты на собственном опыте убедишься, что смерть всегда хуже жизни… Клянусь богами, смерть будет горька для тебя: ведь одно дело — умирать утомленным старцем, пресытившимся ее удовольствиями‚ иное — умирать молодым, не познавшим всех ее радостей.
— Ну, если радостями да удовольствиями считать пьянство, обжорство, разврат, то и в самом деле — не напившись допьяна, не наевшись досыта, не натешив похоть до онемения членов, с жизнью горько было бы расставаться. Но если радость и удовольствие заключаются в достоинстве и чувстве выполненного долга, а предательство и трусость ведут к мучениям, миновать которых можно, только сойдя с дороги жизни, так не предпочесть ли жизни смерть?
Марк говорил уверенно — он отвечал, а не спрашивал. Однако Каллист тоже не считал себя учеником, но считал учителем — он знал за собой право спрашивать, а не отвечать.
— Твои рассуждения достойны римлянина… — внушительно проговорил Каллист и далее с насмешкой, подчеркивающей его пренебрежение к только что сказанному, он продолжал: — Но они достойны римлянина — старика, у которого уже не гнутся колени, чтобы перепрыгивать препятствия, встречающиеся на жизненном пути, и поэтому бедняга вынужден сойти в придорожную канаву — так старость за сильными словами скрывает свое бессилие. (Тут Каллист ненадолго остановился, якобы давая юноше возможность обдумать его слова, а в действительности же — подождав, пока яд его слов впитается в душу Марка.) Но зачем же тебе, такому молодому, умирать?.. Тебе следовало бы перепрыгнуть препятствие, которое глупцы да гордецы называют достоинством, и ты не оказался бы здесь. Так нет же, ты полез напролом, ты хотел сокрушить препятствие твоему так называемому достоинству — нашего императора, и вот результат — ты сам сокрушен. Ты упал, но ты еще не скатился на обочину, ты еще можешь подняться!.. Я чту твою смелость и твое мужество, а император милосерд. Я наверняка упрошу его простить тебя, если ты раскаешься в своей гордыне и поможешь мне кое в чем…
Всю дорогу в тюрьму Каллист раздумывал, как ему вести разговор с Марком, как добиться той степени благодарности юноши, чтобы Марк, если не прильнул к его отравленной руке, подобно Цериалу, то, по крайней мере, пожал бы ему ее (хоть пылинка яда с руки юноши обязательно попала бы Марку в рот — Каллисту стоило только после посещения тюрьмы велеть накормить узников). С Цериалом было проще — понятнее…
«Этот юнец знает о том, что покушение на Калигулу — дело моих рук, — размышлял грек. — И если я предстану перед ним как его товарищ, не разоблаченный и достаточно влиятельный, чтобы спасти его, то, я думаю, пара ободряющих слов — и он бросится ко мне в объятия, а там уж мне надо будет как-нибудь изловчиться и подсунуть ему свою руку. Но такой разговор можно вести только наедине с ним, когда же он умрет, проклятому ищейке Гнею Фабию наверняка покажется странной его смерть — сразу после моей с ним беседы, — и вопросов не оберешься… Итак, все это не годится — я ведь должен встретиться с мальчишкой в присутствии свидетелей, которые могли бы подтвердить, что я не мог убить его. Но перед ними я должен выглядеть как верный слуга Калигулы… Значит, остается одно — я должен так повести себя, чтобы юнец подумал, будто я — прислужник Калигулы, организовавший не покушение, а инсценировку покушения втайне от императора для каких-то своих целей: чтобы запугать (но не убить) Калигулу или чтобы погубить Басса с Цериалом — пусть думает, как хочет. Он, конечно, разозлится — как же, его обманули!.. И он может болтнуть о моем участии в заговоре при тюремщиках… Нет, не болтнет — он будет молчать, ведь если меня разоблачат, то разоблачат и Сарта, его дружка. Однако мне не нужна его ненависть ко мне — мне нужна его признательность. Следовательно, я должен дать ему надежду на спасение — этого наверняка будет достаточно, чтобы он перестал дуться на меня…»
Вначале все шло, казалось бы, так, как и рассчитывал Каллист, Марк ни словом не обмолвился о его участии в заговоре. Правда, грека немного смутило то, что Марк не проявлял ни малейших признаков злобы по отношению к нему — ведь организатором заговора был он, Каллист, и он был на свободе, в то время как его рядовой участник-исполнитель, Марк, сидел в тюрьме, и вот теперь Каллист будто бы судил Марка за то, что сам организовал.
Такую незлобивость юноши Каллисту больше всего хотелось бы объяснить тем, что тот попросту боялся рассердить человека, который мог бы помочь ему (то есть его, Каллиста). Однако при этом Марк должен был стенать на манер Цериала, умолять о милости, а не проявлять такую удивительную твердость. Вот эта-то твердость (или стойкость — как кому нравится) и удивила Каллиста.
Каллист решил, что стойкость юноши исходит из уверенности в том, что его непременно казнят (что его стойкость была сродни обреченности), поэтому стоит только расшатать эту уверенность в неизбежности смерти обманчивой надеждой на спасение, как от невозмутимости и хладнокровия молодого римлянина не останется и следа.
Закончив говорить, грек внимательно всмотрелся в лицо Марка, и ему показалось, что черты юноши потеряли былую суровость. Ему показалось, что он убедил мальчишку — да и разве много нужно доводов, чтобы доказать преимущество жизни перед смертью?..
Принимая молчание Марка за радостное волнение, вызванное открывшейся перед ним возможностью спастись, Каллист бодрым голосом сказал: