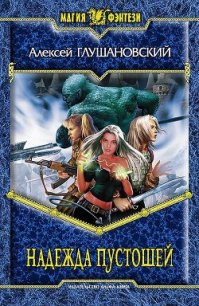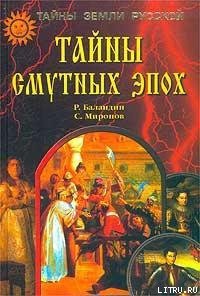Взыскание погибших - Солоницын Алексей Алексеевич (лучшие книги .txt) 📗
…Город, умытый ночным ливнем, утром 16 июля услышал колокольный звон, раздавшийся на звонницах пятиглавого белоснежного храма, сияющего золотыми куполами и крестами.
Площадь перед храмом, аллеи лиственниц, елей, зеленые лужайки, газоны, улицы, со всех сторон ведущие сюда, заполнились паломниками, пришедшими с севера и юга, востока и запада России. Крестными ходами шли сюда пешком по нескольку дней паломники из Волгограда, Ростова, Архангельска, Тобольска, Тюмени, и многих других городов. Износили не одну пару обуви, не устрашились ни палящего солнца, ни дождей, ни усталости, свершая свой личный подвиг во имя царственных страстотерпцев.
Началась Божественная литургия. Вместе с иерархами нашей Церкви, духовенством, монашеством, седобородым и совсем юным, устремила ко Всевышнему свой порыв, казалось, вся Православная Россия.
Конечно, не обошлось и без тех, кого народ наш язвительно назвал «подсвечниками». Они, разумеется, затесались в первые ряды в самом храме. Но не на них останавливался взгляд, а на той женщине, у которой лицо было залито слезами, и икону с изображением царственных мучеников она поднимала к небу, стоя на коленях; на хоругвеносцах, твердо держащих иконы на древках. Я обратил внимание, что рядом с ликами преподобного Серафима Саровского, святых благоверных князей Александра Невского, Димитрия Донского есть лик и нашего современника — воина Жени Родионова, которому чеченские бандиты отрезали голову, потому что наш солдат не снял креста и не отрекся от своей веры. Прошлое и настоящее соединились в одно целое. И потому в сердце каждого, кто был здесь, не могли не войти возгласы и песнопения Божественной литургии, которые с мощью и величием, скорбью и радостью пели хоры. И многажды повторялось: «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!»
На своде, перед входом в храм, золотом по белому надпись: «Пролияша кровь их, яко воду окрест».
Да, кровь мучеников пролилась, как обильные окрестные воды, влилась в них — и навечно. И оттого скорбь соединилась с утверждением веры — той самой, во имя которой они, страстотерпцы, приняли мученический венец.
Народ наш давно понял, по каким нравственным законам жил царь, его семья, и не «мудрствовал лукаво», как многие наши интеллигенты, продолжая, вслед за коммунистами, говорить о царе хотя и не с прежней оголтелой презрительностью, но все же с ухмылкой и непременным осуждением за «мягкотелость» и еще за то, что царь был «не на своем месте», а был-де «просто хороший человек и семьянин». Народ рассудил иначе, сердцем осознал, что царь поступал именно как православный государь, кто, согласно Евангелию, «положил душу свою за други своя». Ничего не формулируя, ничего не доказывая, народ не принял десятки «правильных», «неопровержимых» доказательств «порочности» царя и его семьи. Прославление во святых Николая Второго и его семьи шло из самой массы народной. Как волна, которая набирает силу, двигаясь к берегу под сильным ветром, так и чувство народное обрело напор, высоту и вылилось вот в это торжество, утвердило этот храм, сплотило вокруг него тысячи людей.
Сердце народное не обманулось — убийцы остались убийцами, их имена прокляты, хотя и кричали о «народной мести», и выдавали себя борцами за «народное счастье». А взошедшие на «Русскую Голгофу» обрели бессмертие.
В тот же день служились в храме на Крови всенощная и вновь Божественная литургия. Затем, уже в пятом часу утра, крестным ходом процессия двинулась к урочищу Ганина Яма, где теперь находится монастырь во имя святых царственных страстотерпцев.
ВРАТА НЕБЕСНЫЕ
Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая!
Солнце уходит на дальние выжженные холмы, и свет его заливает все пространство над Волгой и саму реку. Ни ветерка, ни всплеска — как будто движение вечной русской реки остановилось, скованное жестким слепящим светом.
Там, за одним из островов, ближе к лесистому берегу, буксирный катер бросил старую, изношенную временем и трудами баржу, поставив ее на якорь. Баржа обшарпана, в трещинах и выбоинах, доски на палубе грязные и занозистые. Но люк, ведущий в трюм, обит новым железом, и петли для замка новые, надежные, и сам замок тяжел и накрепко заперт ключом.
Что же спрятано в трюме старой баржи? Если что-то ценное, то почему баржу оставили за безлюдным островом? Наступает ночь, и, может быть, кто-то должен подплыть к барже и забрать спрятанный груз? Может быть, это орудуют разбойники? Вывезли из Самары драгоценности, спрятали, а когда ночь упадет на землю, тогда и будет взят клад?
Буксирный катер быстро удаляется. Нет, он удирает, потому что человек, стоящий на корме, жадно курит, то и дело оглядывается, в глазах его застыло отчаяние трусливого преступника.
Второй человек, стоящий у руля, смотрит вперед и думает только о том, чтобы побыстрее добраться до причала. Но и у него в глазах, если присмотреться, тоже испуг, словно он увидел что-то такое, о чем поскорее хочется забыть.
Солнце нырнуло за горизонт, будто ему невмоготу видеть, что происходит на земле и на воде. Тьма обрушилась на землю, и чья-то властная рука задернула черным полотном весь небесный свод.
— Зажигай ходовые! — раздраженно выкрикнул рулевой. И уже тише себе под нос: — Фармазоны проклятые!
Слева по борту показались огоньки причала. На причале несколько человек вглядывались в темноту. Один из них, в двубортном пиджаке, в рубашке с галстуком, завязанным крупным узлом, в очках, видимо, главный.
— Ну как? — спрашивает он.
— Порядок.
— Вас никто не видел?
— Никто.
— Якорь хорошо закрепили?
— Ну что вы, в самом-то деле! Такое спрашиваете, даже обидно…
Они стоят на дебаркадере под красным сигнальным фонарем, и багровый отсвет падает на их лица.
— Я такое спрашиваю потому, — отчеканивает старший, — что мы выполняем строго секретное и особое задание. И вынужден повторить это для всех еще раз!
Он опускает руку сверху вниз, будто рубит. Так он привык делать на публичных выступлениях. Затем по выработанной привычке обводит стоящих рядом буравящим взглядом своих маленьких желтых глаз.
— Якорь укреплял я, — говорит рулевой. — Щелей в барже достаточно, да и пробоина есть. Так что через часик-другой она будет на дне. Место мне знакомое, глубокое.
— Утром проверю лично, — начальник идет к грузовику, садится в кабину к шоферу.
Остальные залезают в кузов.
Тьма поглотила и машину, и город, прилепившийся к реке, и саму реку, и баржу за островом…
В трюм баржи уже по щиколотку проникла вода. Она плещется, когда кто-то из сидящих на досках, приколоченных к бортам, шевелит ногами. Заключенные сидят в полной темноте.
— А вода-то теплая, — голос мягкий, певучий, его нельзя не узнать.
Это сестра Евфросиния, она канонарх в монастырском хоре. Стоило прозвучать голосу, как сразу же тьма перестала пугать.
— Помолимся, сестры, — голос схимонахини Феодоры звучит негромко, но твердо.
Она старше всех. Сколько ей лет, никто не знает. Может быть, девяносто, а может быть, сто. О чем ее ни спросишь, все знает. А сколько видела и слышала! Часами можно слушать, и все не наслушаешься.
— Евфросиния, начинай!
Сестра Евфросиния вздохнула, перекрестилась и, представив, что стоит на клиросе и видит Иверскую икону Божией Матери в первом нижнем ряду иконостаса, запела: «Благослови, душе моя, Господа…»
И голос ее, чистый и звучный, в котором так много искренности и силы, ударился о ветхие борта старой баржи, и не могли они удержать его.
Голос вырвался из потемок трюма на волю и, огражденный лесом правого берега и кустарником острова, понесся по реке: