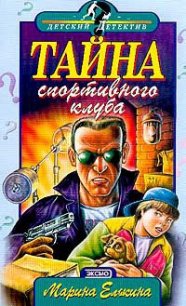Происхождение боли (СИ) - Февралева Ольга Валерьевна (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
— Письменный отказ от иска? Пожалуйста.
Пока Эжен выкладывал на бумагу последние силы, инспектор хитро щурился, воображая себя гением прозорливости. Через минуту он предложит молодому барону отдохнуть на диване, даже одолжит своё одеяло и подушку, сам же дождётся Сельторрена, чьё дежурство закончится лишь к обеду, вернёт ему протокол на Растиньяка и важно скажет:
— Отвези-ка это в центральное бюро уголовных расследований — пусть посмотрят, нет ли у них интереса к этому франту. Мне он что-то подозрителен…
— Мне тоже показалось: с ним не всё гладко, — поддакнет подчинённый, — но что именно?…
— Он юрист и представляет, куда стекаются все заявления о покушениях, кражах, но, как видно, не желает, чтобы там звучало его имя, стало быть, есть люди, более дружные с законом…
— Пожалуй, да, патрон. Я вот что заметил: когда мы назвали его грабителей отморозками, он повёл себя так, будто это слово ему знакомом и понятно, а откуда, если он просто светский человек? И худоба его, и то, что он так спокойно улёгся среди всякой сволочи… Может, он из тюрьмы сбежал или с каторги… Поглядеть бы, нет ли на нём клейма.
— Ещё не поздно…
— Вы совсем рехнулись, — сонно заявит им с дивана Эжен, — Мне двадцать четыре. По-вашему, я одновременно штудировал право и мотал срок?
— Учёбу вы могли закончить год или два назад…
— Я специализировался на криминалистике, а с цветной феней знакомился по двухтомному словарю Крево и Орля семнадцатого годя издания.
— Всё равно мы отправим ваше дело в уголовное управление.
— Да ради Бога.
Глава XLVIII. Анна и сирены
Лес редел и сушел, земля едва заметно загибалась вверх. Анна всё ещё шлёпала ступнями по как будто торфяной влаге, но идти было несоизмеримо легче, чем вначале чащи. Красные ягоды снова попадались ей, но она боялась на них даже смотреть.
В месте, где деревья совсем расступились, а из моха высились лишь кустарники, в одном из них, похожем на шатёр, Анна увидела чудо — молодая длинноволосая сирена кормила грудью своего птенца-младенца, приобнимая и поглаживая его золотистыми крыльями. Она без страха, дружелюбно взглянула на женщину в чёрном.
— Здравствуй, — сказала, — добрый тебе путь.
— Здравствуй, — пролепетала Анна, чуть дыша от умиления, — Это мальчик или девочка?
— Это моё дитя, — ответила сирена, подтверждая признание крылатой старухи: они не понимают человеческих вопросов, — Не будешь ли добра собрать мои волосы, чтоб они не прилипали к коже?
— Прости, нет. Я могу причинить тебе вред своим прикосновением.
— Если до меня ты дотронуться не хочешь, то, может быть, дитя подержишь на руках?
К ужасу Анны младенец, месяцев трёх-четырёх на вид, улыбнулся ей, как родной, и протянул трепещущие недоразвитые крылышки, покрытые, как и всё тельце, нежным белым пухом.
— Как ты можешь мне такое предлагать!?
— Я чувствую твоё желание.
— Да, я была бы счастлива хоть разок погладить этого ангелочка — потому что у меня на земле осталась дочка, но неужели тебе не жаль малютку? Ведь я могу её (или его) погубить!
— Тебя жаль, ты поражена злом, тебе нужна наша помощь.
— Нет! Я сама найду спасение!
— Это говорит гордость, но не правда. Возьми дитя.
Сиреныш снова приподнял крылышки и пропел: «аги! гиии!». Анна всхлипнула: «Прости меня, крошка!» и, опустившись на колени, прижала это создание к сердцу. Ей казалось, что она действительно обнимает свою Аду, будто повторяется день рождения её любви к дочери; она прикладывала щёки к пушистому темени и чувствовала, как пульсирует родничок…
Когда Анна насытилась нежностью и отстранила птенца, он выглядел старше на три года, но никаких признаков страдания не нёс. Его крылья удлинились, на них пробились тонкие пёрышки; на голове — густые кудряшки. Он обернулся к матери и весело сказал: «Она почти совсем не злая». Сирена погладила его и поцеловала в лоб, человеку же предложила ещё один дар: «Моё дитя подросло, а молоко осталось. Выпей его ты». Анна ошеломлённо, растерянно ахнула, затрясла головой, но детёныш вытолкал откуда-то осколок яичной скорлупы, большой, белый и блестящей, как фарфор: «Тебе не придётся трогать». Сирена надавила на груди локтями, и по крыльям побежали в черепок белые струйки, наполнили его. Вкус молока Анна сблизила бы со вкусом косового сока, если бы пробовала его. От напитка ей стало тепло и приятно, она снова приласкала птенца, а женщине-птице заплела волосы в две косы, после чего пошла дальше.
Глава XLIX. О Париже земном и небесном
Как выглядит обиталище журналиста? Орас воображал комнату, обитую дорогущим голубым шёлком, вдрызг забрызганным, засаленным, исчёрканным, многими местами порванным; большое круглое зеркало в бронзовой раме — покрытое пылью, загустевшей до подобия мастики; люстру размером с мельничный жёрнов — всю в паутинах. В общем, нечто безвкусно-дорогое и испорченное, как сама жизнь этих жалких продажных людишек. Он вполоборота встал перед дверью Эмиля, разглядывая огромный сундук, пару вёдер, гору каких-то палок и дощечек в углу, и постучал в неё локтем.
Открыла Береника. Вместо ожидаемой горькой затхлости пахнуло сладким уютом — к завтраку жарились пшеничные гренки на коровьем масле и варился кофе, чей аромат ладил с табачным дымком.
— Вам кого?
— Господина Блонде.
— Милости просим!
Однокомнатная квартира вмещала в себя слишком много вещей, чтоб обстановку можно было назвать опрятной, и всё-таки здесь соблюдался порядок. Вся правая от входа сторона принадлежала хозяину. Вешалкой служила дюжина гвоздей, вбитых в торец книжного шкафа, тянущегося до перегородки, пёстро обклеенной винными этикетками, какими-то афишами, вырезками из журналов. На гребне перегородки выстроилась шеренга из четырнадцати одинаковых зелёных бутылок. Под ней стоял стол о четырёх соломенных стульях. Там сидели два молодых человека и двое детишек. Один из взрослых развлекал малышей, вырезая что-то из бумаги; другой читал, через каждые две минуты разрезая страницы.
Левая, кажущаяся большей сторона принадлежала женщине. У входа поворачивался в комнату буфет, в углу поблёскивало трюмо, дальше по стене — высокая этажерка, заставленная банками и бутылками, коробочками и мешочками со всякой кухонной сушёнкой и сыпучкой; по её краям свисали пучки трав, над плитой висел большой венок из лавровых веток, уже несколько пощипанных. А там до угла — стол для стряпания, под которым громоздились пирамиды из кастрюль. На стене муха не втиснулась бы между висящими хлебными досками, половниками, ножами, прихватками и прочим добром.
Небо глядело в комнату из рамы, обитой несколькими слоями войлока, бывшего когда-то пятью цветными одеялами. К стеклу крепилось несколько красивых бумажных снежинок. Весь подоконник был ящиком с землёй, откуда лезли хлипкие ростки петрушки и мощные стрелы лука.
— Мне нужен господин Блонде, — повторил медик.
— Дац ми! — радостно отозвался парень с ножницами.
— Я к вам по просьбе Эжена де Растиньяка…
Через двадцать минут Эмиль и Орас катили к старой кордегардии. «Я так и знал, что с этим неувязком чего-то да стрясётся!» — скороговоркой бормотал журналист, ёрзая, ежесекундно заглядывая в окошко фиакра, тиская в объятиях свёрток тёплой одежды.
Доктор молчал, дремал; его желудок блаженствовал, расщепляя гренку.
Эжена они увидели сидящим на известном диване. Возле него хныкала старуха, у которой со вчерашнего дня не вернулась домой внучка. Кроме них в кабинете был только малозаметный дежурный — сменщик Марквара. Эмиль бросился к другу:
— Ну, ты даёшь, кошкин ты еж!
— Правильно наоборот: ежкин кот, — ответил Эжен, почти величавым жестом отклоняя эмилев порыв надеть на него носки. Эмиль снял для него с себя ботинки, шерстяной жилет, пальто, шарф, шляпу, сам нарядился в принесённое, холодное, тараторя всякие прибаутки. Фиакр ждал их недолго. На обратном пути журналист принялся расспрашивать про бал: кто был и как был одет, как развлекались, что подавалось из напитков; молодой барон покорно и подробно отвечал по всем пунктам, вызывая у собеседника восторг за восторгом.