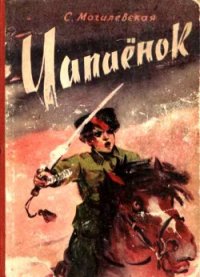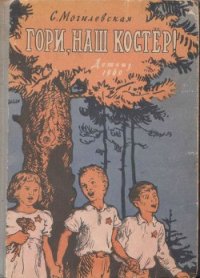Театр на Арбатской площади - Могилевская Софья Абрамовна (бесплатные версии книг txt) 📗
И полушалок матушка ей купила. Правда, не тот в розанах, зато атласный, пунцовый. Накинула ей на голову и прошептала, любуясь: «Ишь как на тебе ладно, доченька…» И слезу пустила. Эх, благодарности в тебе нет, Санька, вот что я тебе скажу! Найдя укромное местечко позади скамьи, Санька присела на траву, продолжая, однако, разглядывать всех, кто проходил мимо. Ну и рассказов у нее наберется! Полон короб… Послушают любезные сестрицы, чего она им сегодня наговорит.
Недалеко от той скамьи, за которой устроилась Санька, остановилась красивая барыня, а рядом с нею два барина. Говорили все трое между собою, надо думать, по-чужеземному, слова у них были непонятные. А платье на барыне было уж до того хорошо, что глаз не отвести: голубого переливчатого шелка да с синими бархатными бантами. И шляпка под стать — белая, тоже с синими бантами. Что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь!
Но могла ли представить себе Саня, что темно-голубой наряд, который был в этот день на французской актрисе Луизе Мюзиль и так обольстил Саню, будет подарен именно ей, Саньке? Правда, уж не новый, поношенный, но все равно, щеголяя в этом наряде, она будет сокрушаться лишь об одном — что не может похвалиться им перед Марфушек и Любашей, покрасоваться перед соседской Парашей. Да и мачеха пусть зеленеет от зависти, не жаль…
И так получилось, что оба барина, простившись с француженкой, подошли к той скамейке, за которой в тени, на зеленой траве, сидела наша Санька.
А были эти два человека — один знаменитый в те времена драматург и театральный деятель князь Шаховской, а второй не менее знаменитый московский актер Петр Алексеевич Плавильщиков.
Глава четвертая
О том, как Санька увидела на земле кошелек
Они были очень разными, эти два человека, присевшие на скамью.
Один — старинного княжеского рода Александр Александрович Шаховской.
Второй из купцов — Плавильщиков Петр Алексеевич.
Шаховской — истый петербуржец, слегка презиравший Москву и все московские театральные порядки, о которых знал хорошо, хотя лишь временами — вот как теперь — наезжая в Москву.
Плавильщиков — москвич, верный своему городу, почитавший Москву превыше всех городов на Руси. Самое короткое время он провел на сцепе петербургского театра, чтобы, вернувшись в Москву, уже более никуда не выезжать.
Шаховскому в ту пору, о которой ведется рассказ, было лет тридцать пять или около того, Плавильщикову уже перевалило за пятьдесят.
Один, несмотря на свой солидный возраст, был красив, хотя и дороден. Из-под крутого излома бровей смотрели строгие глаза, грива волнистых волос спадала на плечи.
У Шаховского же большой лоб переходил в изрядную плешь, обрамленную возле ушей и на затылке жидкими кудельками. Обладал он огромным носом, над которым и сам слетка подтрунивал. Глаза узкие, монгольского разреза, умные, с лукавством. Такой человек может отпустить столь ядовитую шутку, от которой не сразу очухаешься! Был оп высок, толст, неуклюж, однако очень подвижен.
Плавильщиков всегда говорил плавно и спокойно. Его голос, по-актерски правильно поставленный, переливался и рокотал на низких нотах, переходя от громкой речи до хорошо слышного полушепота.
А у Шаховского, казалось, во рту был спрятан пищик, вроде тех, которые бывают у балаганных клоунов или петрушек: несообразно с толщиной говорил оп тонким и писклявым голосом.
Плавильщиков был важен и нетороплив, Шаховской весь в суете и движении.
И несмотря на такое явное различие, двух этих людей роднила одна великая, неуемная, всепоглощающая страсть — любовь к театру. И тот и другой — оба они всю свою жизнь и все свое время отдавали театру. Оба были драматургами. Оба не видели другого призвания, кроме работы в театре.
Шаховской был не только драматургом, но и режиссером многих пьес, идущих на петербургской сцене, — умный и опытный педагог, он вырастил целую плеяду выдающихся русских актеров. Будучи ревностным поборником процветания в России своего отечественного театра, он взамен любимого в те годы театра французского ведал и направлял репертуар всех русских театров того времени.
То же самое можно было сказать и о Плавильщикове. Но кроме того, Плавильщиков был знаменитым актером. Актерский диапазон его был столь велик, что он заставлял зрителей рыдать, когда играл короля Лира в драме Шекспира, и покатываться от хохота, когда выступал в роли Скотинина в «Недоросле» Фонвизина.
Оба — и Плавильщиков и Шаховской — были широко и многосторонне образованными людьми.
Теперь Эти два человека, сидя на скамейке, вели между собой неторопливую беседу. А за их спинами, на траве, сидела Санька. Сидела смирно, чуть ли не затаив дыхание, и боялась лишь одного — чтобы эти важные господа не оглянулись, а оглянувшись, не прогнали бы ее прочь. Сперва она хотела было разуться — пусть отдохнут усталые ноги, прежде чем пускаться ей в обратный путь, — да постеснялась: уж больно нарядные господа разгуливали взад и вперед мимо березок.
Между тем плешивый толстяк с длинным носом, кивнув на барыню в синем наряде, пропищал своим тонким голосом:
— Да, сударь мой, хороша была сия актриса лет эдак с десяток тому назад… Прелестна!
Он поцеловал кончики своих собственных в щепотку собранных пальцев, чем очень позабавил Саньку. Она невольно стала прислушиваться к их разговору.
— Особо в водевилях, — прибавил тот, который был постарше.
— А в Мольере, в «Скапиновых обманах», плоха ли?
— Помню, помню! И бойка, и вертлява, и слова как жемчуг низала! Аплодисментов порядком нахватывала — публика сложа руки не сидела.
— Э-э, что там говорить, годы не красят! Теперь небось перешла на роли благородных матерей?
— Все больше по барским гостиным французские романсы распевает. У наших барышень и барынь мода на такие, сами знаете, ваше сиятельство…
— Что и говорить…
Оба умолкли. Один сверлил своими узкими насмешливыми глазами гулявшую по бульвару публику, второй задумчиво ковырял палкой песок возле скамьи.
А Санька в душе вроде бы и возмутилась. Не то чтобы она полностью поняла, о чем они говорили, но уловила: ту красивую в синем шелковом наряде они не хвалят, не восхищаются ею, а, напротив, за что-то порицают. А сами-то, сами? Один старый, другой… другой плешивый, а еще берутся такую раскрасавицу ругать…
— Так и не собрались к нам в Петербург? — проговорил Шаховской, оторвав глаза от публики и вновь обратившись к Плавильщикову. — А может, на этот сезон пожалуете?
— И-и-и… ваше сиятельство, куда уж теперь?! Шестой десяток пошел. В молодые годы не ужился, чего там говорить теперь…
— Любезнейший мой сударь, только что перед вами на коленях не стояли, а уж как звали, как звали!.. Навряд ли кого еще из актеров так приманивали, как вас! И роли вам самые первые и все сопутствующее…
Плавильщиков чуть усмехнулся, польщенный:
— Так-то оно так, но привержен я всеми помыслами к Москве. Родился здесь и помру в нашей матушке Белокаменной.
«Вот это да! — думала Санька. — И я тоже из Москвы ни на шаг. Какой-то Пе-тер-бург… Да ведь язык набок своротишь, пока вымолвишь. Москва всем городам мать!»
Сердцем она была с тем барином, который так красно говорил о Москве.
И как же все трое ошибались!
Где только не привелось побывать Саньке за свою жизнь, кроме Москвы! А князь Шаховской, человек не любивший Москвы, один из первых надел военный мундир Тверского ополчения и в грозные дни нашествия французов, оставив литературную и театральную деятельность, стал на защиту Москвы. Плавильщикову же пришлось последние дни перед смертью провести вдали от любимого им города и умереть вне Москвы.
— А вон, сударь мой, Митрофанушка идет, — вдруг развеселясь, воскликнул Плавильщиков. — Вон, в синем фрачке! Кому надобно представить сию роль из комедии господина Фонвизина «Недоросль», стоит лишь взглянуть на этого фанфарона — и роль готова!
Шаховской поглядел туда, куда указывал ему Плавильщиков, и тоже развеселился: уморителен был франт, важно проходивший мимо.