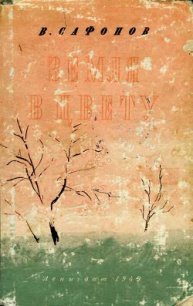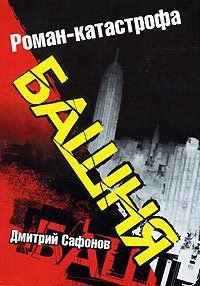Дорога на простор - Сафонов Вадим (книги онлайн полностью бесплатно .TXT) 📗
– Пульнет, а я под чепь – ты слушай, братику. А я под чепь, а я под чепь. Так и пробег весь бом у Азове. А после – к паше в сарай. Караул мне что? Я их – как козявок. Яхонтов да сердоликов в шапку, а тютюну в кошель. А на женках пашиных халатики пожег. То они и светили мне на возвратный путь.
Кинул опять и, пока катились кости, ласково приговаривал:
– Бердышечки, кистенечки, порох-зелье – веселье…
Сивобородый казак Котин, глядя на нестерпимый блеск реки, тихо сказал:
– А хлебушко – тот простор любит, в дождь растет, подымается, колос к колосу, зраком не окинешь, в вёдро наливает зерно…
Говорил он мелколицему шепелявому парню, Селиверсту, который улегся рядом – голым затылком на землю, выцветшими глазами уставясь в небо. Но будто ужалили Селиверста эти слова:
– Не шути, шут! Тля боярская – не казак!
Вдруг странно стих конец майдана. Что-то двигалось там в молчаливом кольце народа. Женщина, верхом на коне, медленно волочила голяка, – он силился приподняться, жирный, белый, и валился на живот, сопротивляясь волокущему его аркану змеиными движениями всего тела.
Сдвинув брови, женщина направила коня к есаулову куреню. Она подала есаулу кусок бумаги, исписанный арабскими буквами, и чугунок.
Вот так Махотка, вдова безмужняя! Муж, все знали, кинул ее, ушел на восток, жил с рыбачкой на Волге и сгинул. Цокнул языком, головой покрутил отчаянный игрок и, забыв про кости, встал, вытянулся во весь свой немыслимый рост – чудо-казак. Баба черная, здоровая, ничего, что худая в грудях. Ай да баба!
Гаврюха же перебросил товарищу рыбу, быстро шепнул: "Подержи. Матка-то!.." И шмыгнул в кольцо народа.
Уже слово "измена" прокатилось по майдану. Было оно – как искра для пороха. Голый, в кровоподтеках, Савр-Оспа валялся в пыли. Но кто писал, кто мог написать ему турецкое письмо для Кассима-Паши? "Измена в станице!" Три казака схватили Оспу. Гаврюха видел, как ясыря потащили к столбу под горой. Обернулся к товарищу: "Гнедыш!" А Гнедыша и след простыл. Слышно было, как Оспа визжал и бился до тех пор, пока, должно быть, какой-то казак не сорвал с себя шапку и не заткнул ему ею рот.
Савр-Оспа не выдал никого.
Ударила пушка – черный клуб вспучился на валу, отозвались пищали. Сверху на речную дугу выбегали стаей суда. На головной каторге трубят, будары сидят низко, бортами почти вровень с водой, отяжеленные грузом. Из чердака каторги вышел желто-золотой человек, стоит прочно, расставив ноги. А вокруг вьются струги, стружки, ладьи: там палят, поют и трубят, плещут весла – целый водяной городок пестро бежит вниз мимо черных шестов учугов – рыбных промыслов.
Ударили в ковш на майдане. Весь город тут как тут, бабы поодаль, не их то дело. На пустых улицах в горькой пыли одни голопузые сорванцы играли с татарчатами.
По крутой дороге шли с реки атаман с булавой, есаулы с жезлами. И рядом с атаманом, впереди есаулов, шел длинный, весь парчовый человек. Он искоса поглядывал по сторонам, верно, любопытно было ему поглядеть, но воли себе не давал, шел осанисто, откинув назад красивую мальчишескую голову.
Все прошли в середину круга. Там он снял шапку-башню, и, когда на все стороны кланялся честному казачеству, рассыпались русые кудрявые волосы. Круг на миг замолчал, потом сдержанно загомонил:
– Небывалое дело!
– Стариков принимали.
– Поношенье Дону – мальца слать…
Истово, невозмутимо гость надел шапку и, кивнул дьяку, властно откинул голову. Дьяк развернул грамоту и стал читать:
– "От царя и великого князя Руси Ивана Васильевича. На Дон, донским атаманам и казакам. Государь за службу жалует войско рекою столбовою, тихим Доном, со всеми запольными реками, юртами и всеми угодьями. И милостиво прислал свое царское жалованье…”
Жаловал тем, что и без него имели. Но это был торжественный по обычаю зачин. Самое важное: хлеб, порох, свинец были тут, в бударах; борта их еле выдавались над водой.
Дьяк не остановился на милости. Длинную грамоту московскую наполняли бесконечные "а вы бы", "а мы бы…" Казаки не все понимали в велеречивой грамоте. Но поняли: за милостью шла гроза. Царь корил донцов: по их винам, буйству и своеволию султан Селим и хан Девлет-Гирей двинулись на Русь. Извещал: "послали есмы для своего дела" таких-то воевод и таких-то казачьих атаманов в Астрахань и под Азов. "А как те атаманы на Дон приедут и о которых наших делах вам учнут говорить, и вы бы с ними о наших делах промышляли за один; а как нам послужите и с теми атаманами о наших делах учнете промышлять, и вас пожалуем своим жалованьем…”
И дьяк повысил голос, когда дочел до того места, где царь требовал схватить главных заводчиков и смутьянов. Про что сейчас читал дьяк, казаки хорошо знали. Между степью и турецким султаном стоял мир, приговоренный московскими дьяками. Но в степи живал мир недолго и никто не радел о нем. Однажды азовец, торговавший коней, подрался с казаком. "Размирная!" – закричали казаки. И пошла в Азов грамота: "Ныне все великое донское войско приговорили с вами мир нарушить: вы бойтесь нас, а мы вас станем остерегаться". Было веселье: готовили воинскую сбрую. "Добудем зипунов!”
В первый раз, что ли, было так? Так бывало – сколько Дон стоит.
Только теперь Селим-султан порешил вовсе перевести казачий корень. Кассим-паша выступил с янычарами, а хан Девлет-Гирей пригнал ему пятьдесят тысяч крымцев. А царь виноватил в том казаков и клал свой гнев на заводчиков смуты.
На золотом шнурке грамоты в руках у дьяка болталась красная большая печать.
Дьяк дочитал.
– Любо ли вам, атаманы молодцы?
Круг молчал. Атаман выступил вперед:
– Что ж, мы царю не противники. Поищем, поищем смутьянов да забияк.
Так говорил атаман Коза.
– Только слышь, господин, с Дону выдач не бывает. Хвост белого коня висел на шесте рядом с атаманом. Бунчук означал волю.
Царский посланец упрямо тряхнул головой. Звонким, еще не по-мужски твердым голосом он крикнул, впервые открыто с любопытством оглядывая загудевший круг:
– Вы, низовые! Воровать оставьте. Верную службу великий государь помнит. Ослушники да устрашатся государевой грозы!
Смелые слова, непривычные для здешних ушей. Внизу на реке стояли будары, полные хлебом. Он и не думал еще разгружать их. Хлебный караван посреди голодного своевольного люда! Но настала пора скрутить Дон, смятенный турецким нашествием.
Понимал ли этот посланец, кого дразнит, с каким огнем играет? Не о двух головах же!
А он, сказавши, спокойно выжидал, и, длинный, поверх толпы разглядывал, теперь уж не таясь, крыши, улицы, желтые подсолнухи.
Какая сила была за ним, что позволяла она ему, беззащитному, разговаривать с Доном так, как не посмел бы паша со всеми своими крымцами и янычарами?
– Кто ж таков? Какого роду? – спрашивали в толпе.
– Волховский, что ли. Князь Семен Волховский…
Косматый старик сказал:
– Из новеньких. Древних и не слыхивали таких.
– Эге. Волхов-река в Новегороде, – запищал птичьеглазый исполин. – Оттель, значит. Князь из Новагорода. А князей-то там не жаловали.
И, убеждая, таинственно нагнулся к соседу:
– Ты мне верь. Я сам боярский сын, не знал?
– О! Бурнашка? – захохотал сосед.
– То для вас – Бурнашка. Имя сокрыл свое. А я Ерофей. Ерофей Ерш, Ершов. А вы: Бурнашка Баглай!
И задние захохотали, в то время как все громче гудело в передних рядах.
Посланец перевел глаза на Козу: огромный, рыхлый, с бритой головой. Для атаманов привезено цветное платье, да неизвестно, налезет ли оно на такого.
Коза юлил. Он заговаривал неторопливо, долгий опыт подсказывал ему, что, живя не спеша, выигрываешь время, а это во всех случаях бесспорный выигрыш. Коза пошучивал, крутил ус.
Он был немолод, жизнь не прошла даром; ему хотелось в спокойствии и достатке, в чистом курене, у тихой воды беречь атаманскую булаву. От Москвы идут службы и выслуги. Не холопьи службы, а вольные казачьи, с почетом, с торговлишкой при случае, и тоже с добрыми дарами – он ведь догадался об укладке с цветным платьем, что стояла на боярской каторге.