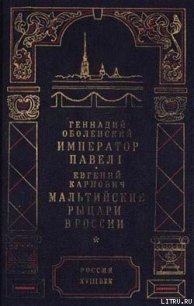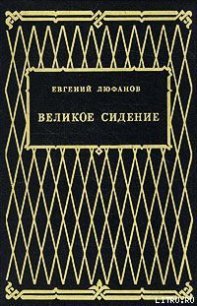Любовь и корона - Карнович Евгений Петрович (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
– Я вам это прощаю, так как вы только исполняете то, что вам приказывают, но скажите Остерману, который, собственно, устроил это дело таким неприличным образом, если он забыл, что мой отец и моя мать вывели его в люди, то я сумею его заставить вспомнить, что я дочь Петра I и что он обязан уважать меня.
Смелая речь цесаревны встревожила правительницу, и она, слабая характером, сочла нужным отправиться к Елизавете для личных перед ней извинений.
Тяжелы и неприятны были для Елизаветы и денежные ее дела. Красавец Алексей Разумовский, заведованию которого они были поручены, только то и делал, что пел малороссийские песни и думки да играл на бандуре, не занимаясь вовсе ни интендантской, ни шталмейстерской частью; частые и щедрые раздачи офицерам и солдатам чрезвычайно ослабляли денежные средства Елизаветы. Несмотря на получаемое ею большое содержание, она постоянно была без денег, ей приходилось занимать, а потом, конечно, и расплачиваться с кредиторами, и в этом последнем случае не оставалось ничего более, как только обращаться с просьбой к правительнице, и такое унижение было всего мучительнее для ее самолюбия. При просьбах Елизаветы о выдаче денег или об уплате долгов, Анна Леопольдовна входила в роль расчетливой правительницы-хозяйки и делала своей старшей родственнице внушения о бережливости и об умеренности расходов, не подавая, однако, сама тому примера. Однажды Елизавета под напором кредиторов вынуждена была обратиться к правительнице с просьбой заплатить за нее тридцать две тысячи рублей долгу. Анна Леопольдовна не отказала ей в этом, но чрезвычайно обидела ее, потребовав представления подлинных счетов. При проверке же их оказалось, что они не сходятся с той суммой, о которой заявила сама Елизавета. Долги цесаревны хотя и заплатили, но дело это не обошлось без замечаний со стороны правительницы, сильно раздраживших цесаревну и давших ей новый случай почувствовать всю тягость своей зависимости от другой женщины, и она еще заботливее стала думать о том, чтобы поскорее выйти из такого положения.
XXVI
Дом графа Андрея Ивановича Остермана был в свое время одним из самых заметных домов в Петербурге по своей архитектуре и по своей величине. Он был каменный, двухэтажный, не считая при этом подвальной постройки. На главном фасаде в двенадцать окон был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами, и такие же два окна были во фронтоне, устроенном над выступом. Над домом была высокая в два отдельных ската черепичная крыша; от парадного подъезда, выходившего на улицу, шли две широкие лестницы по обе стороны от дверей в виде больших полукругов. Внутренность этого графского жилища не соответствовала, впрочем, внешней его представительности. Манштейн в «Записках» своих сообщает, что образ жизни графа Андрея Ивановича был чрезвычайно странен: он был неопрятнее и русских, и поляков; комнаты его были меблированы очень плохо, а слуги были одеты обыкновенно как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, а хорошие кушанья подавались у него только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение.
В таком наряде, с большим зеленым тафтяным зонтиком на глазах, сидел у себя в кабинете Остерман, когда его камердинер-оборванец доложил, что приехала баронесса Шенберг.
Остерман поморщился, но приказал просить гостью в кабинет. Хотя муж баронессы, бывший главным начальником по горной части, и находился в самых добрых отношениях к Остерману, но этот последний сильно недолюбливал его супругу, опасаясь ее, как болтливую женщину, умевшую притом выведывать чужие тайны и чужие мысли, и вдобавок к этому он боялся ее, как страшную интриганку.
В кабинет Остермана вошла средних лет красивая женщина, стройная, с надменным взглядом, с горделивой поступью. В один миг она оглядела кабинет графа.
– Очень рад вас видеть, баронесса, – приветствовал притворщик-хозяин вошедшую к нему даму. – Вы, вероятно, изволили пожаловать ко мне по делу вашего супруга, но, к сожалению, я пока ничего еще не мог учинить в его пользу; надобно, впрочем, полагать, что все возводимые на его превосходительство обвинения окажутся злостной клеветой, я в этом уверен, и вам следует успокоиться…
– И не беспокоить других, думаете вы про себя, граф, но только из вежливости не говорите мне этого… На дело моего мужа я, впрочем, махнула теперь рукой – это пустяки, о которых не стоит и говорить. Я сама вполне уверена, что все обойдется благополучно, несмотря на все происки наших недоброжелателей, а потому и вас прошу нисколько не беспокоиться насчет барона. Не с просьбой я приехала к вам, а с предложением, за которое вам впоследствии придется поблагодарить меня.
Вступительная речь баронессы крайне удивила министра. Муж ее, пользовавшийся особым покровительством регента, после его падения был отдан под суд за злоупотребления, взяточничество, вымогательство и казнокрадство, и, по-видимому, ему угрожала большая беда, почему жена его еще весьма недавно и хлопотала за него самым деятельным образом у всемогущего при правительнице Остермана.
– Я посетила вас, – добавила баронесса, – по чрезвычайно важному делу.
Министр навострил уши, и в то же время как-то боязливо съежился на своем широком кресле, предчувствуя что-то недоброе.
– Знаете, баронесса, – проговорил он, запинаясь и надвигая на лицо зонтик, – относительно чрезвычайно важных дел я человек очень мнительный.
– Знаю, и даже как нельзя лучше знаю это… – перебила баронесса.
– Я боюсь… – заговорил Остерман.
– Боитесь, вероятно, моей болтливости? И прекрасно делаете!.. Но если уже я хоть раз побеседовала с вами наедине, как теперь, то боязнь ваша не принесет вам решительно никакой пользы. Разве я после этого не могу, если только пожелаю, рассказывать всем и каждому о моей с вами беседе так, как мне будет угодно? Если, например, вы в настоящем случае откажете мне не только в вашем содействии, но даже в ваших разумных советах и полезных наставлениях, то тем не менее я буду иметь возможность рассказывать всему городу, что вы мне внушали то-то и то-то, – говорила баронесса с беззастенчивостью, переходившей в наглость. – Я же вам вот что скажу… – При этих словах она с креслом придвинулась еще ближе к Остерману, только пожимавшему плечами, и таинственным шепотом сказала ему под самое ухо:
– Я хочу женить графа Линара…
– Но ведь ее императорское высочество… – вздрогнув, сболтнул осторожный Остерман.
– Да разве ее императорское высочество тут при чем-нибудь? – строго спросила баронесса.
– Вы мне не дали договорить, милостивая государыня. Я хотел сказать, – начал вывертываться Остерман, – что вы, вероятно, изберете графу невесту из фрейлин, а потому, конечно, от воли ее императорского высочества будет зависеть…
– Нет, вы не то хотели сказать, – отрезала баронесса, – и это было видно по выражению вашего лица. Не думайте, чтобы вы могли закрыться от меня вашим зонтиком. Я нарочно ближе подсела к вам, да и к чему такая прикрышка между друзьями?.. – С этими словами баронесса быстро сдернула зонтик с головы Остермана и бросила его на стол.
– Но, помилуйте, у меня глаза болят, я не могу смотреть на свет, – бормотал жалобно Остерман, пытаясь, не привставая с кресел, достать со стола зонтик, который бесцеремонная гостья при этой попытке отодвинула подальше.
– Будьте вполне откровенны со мной, граф; ведь мы отлично понимаем друг друга, и потому я повторяю вам, что я, по моим соображениям, хочу женить графа Линара…
– На ком же, однако, позвольте спросить? – проговорил смущенным голосом Остерман.
– На одной из девиц фон Менгден.
– На которой же из них: на Юлиане, Якобине или Авроре?..
– Угадайте.
– Думается мне, что если вы действительно собираетесь устроить эту свадьбу, то выбор ваш никак не может пасть на Юлиану, ее высочество привязана к ней до такой степени, что не захочет ни за что расстаться с ней, а между тем неизвестно, долго ли граф Линар останется в Петербурге. Да и признаться, я что-то не понимаю, зачем вы затеяли это сватовство…