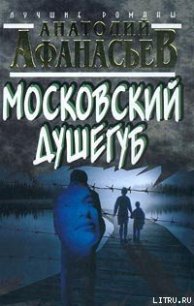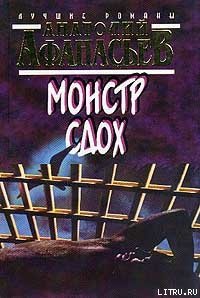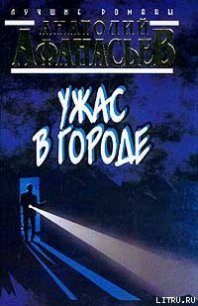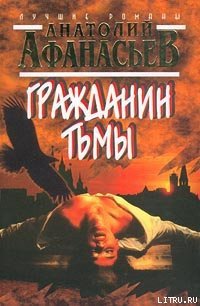...И помни обо мне(Повесть об Иване Сухинове ) - Афанасьев Анатолий Владимирович
— Вон ты как, Паша, открылся! Вон какая от тебя произошла благодарность за все мои заботы и благодеяния. Что-то и нынче ты ни к кому, а ко мне за подмогой подкатился. И я тебе не отказал! Значит, выходит, ты мужицкий заступник, а я мразь?! Это ты врешь, Паша! Давай у них и спросим, у мужичков. Кого они боятся пуще чумы, а у кого совета ищут. Ась?
Но распалял он себя понапрасну. В Голикове он нуждался больше, чем тот в нем. Неограниченная власть, которой пользовался Голиков среди каторжных, его чудовищная сила и напористость были надежным щитом для Бочарова. Ему и на каторге полегче жилось за могучей спиной Голикова, и в случае побега, на воле, в самых непредвиденных обстоятельствах Голиков мог пригодиться, как никто прочий. Правда, приручить его не удавалось. Свирепая натура бывшего фельдфебеля не терпела и намека на зависимость. С ним приходилось действовать осторожно. Более того, всегда опасный для окружающих, Голиков был опасен и для Стручка. Он это хорошо сознавал. Вспышки Пашиного гнева были непредсказуемы, и угроза прикончить купеческого сына могла осуществиться в любой момент. А могла так и остаться угрозой. Когда Голиков засыпал, вольно разметавшись на нарах, Стручок садился рядом и подолгу ненасытно разглядывал бородатое, смуглое, каменное лицо. Напружинивалось его хитрое сердце от нехороших желаний. С каким наслаждением он вонзил бы нож в это могучее неподвижное тело, в широкий выпуклый живот, с какой радостью увидел бы, как перекосится судорогой предсмертного испуга медвежий лик. «Когда-нибудь так и будет, — тешил себя Бочаров. — Никуда ты, боров, от меня не денешься! Но не сейчас, не сейчас… Ты думаешь, все тебя боятся, ты думаешь, и Васька Бочаров от страха очумел — на-кася выкуси! Давно уж ты ходишь у меня на веревочке и будешь ходить, пока мне надобно. А там поглядим, какую я тебе казнь приготовлю».
Бочарову сладко было думать, что он водит на веревочке закадычного дружка, но он заблуждался. Да и ненависть его к Голикову была невнятной, с примесью нежности и тревоги. Эти двое сошлись для того, может быть, чтобы убить друг друга, но каждый не представлял, как останется коротать свои дни в одиночестве.
В Москве Сухинова свалила болезнь. В госпитальном помещении тюремного замка все четверо тлели в беспросветных горячечных сновидениях. Когда кто-нибудь один ненадолго приходил в сознание, он видел изможденные, бледные лица своих товарищей, с трудом их узнавал и не мог понять, где он и что с ним. Однажды очнулись одновременно Сухинов и Мозалевский. Оба были так слабы, что еле шевелили губами.
— Где мы, Сухинов? — спросил Александр, с недоумением обводя взглядом потолок и стены.
— На привале, — ответил Сухинов не вполне твердо. — Скоро рассветет, и пойдем дальше. Ты пока отдыхай.
— Неужели мы еще живы? А мне казалось, что я уже… Знаешь, дорогой Иван Иванович, ко мне приходил недавно человек в сером халате с торбой. Он был похож на Сергея Ивановича. Он сказал, чтобы я укрепился духом, потому что все плохое позади. Государь нас помиловал и отпустит домой. Но потом на этого человека набросились крысы, стали кусать его и на моих глазах отъели у него ноги… О, это было ужасно! — Мозалевский заплакал.
— Не плачь, Саша, — сказал Сухинов. — Как только придем в Москву, я проберусь к государю и потребую у него ответа. Может быть, мне повезет и я его задушу, пока не набежит охрана. — Сухинов потянулся к стоявшей на табуретке миске с водой, поднес к губам, отпил, но миска скользнула из пальцев, и вода пролилась на грудь, приятно охладила пылающее тело. Он повернул голову к Мозалевскому, хотел дать и ему водицы, но Сашины широко раскрытые глаза уже затуманились бредом.
По прошествии некоторого времени здоровье их начало поправляться. Молодость взяла свое. Но еще много дней они воспринимали действительность не совсем четко. Например, они не смогли понять, каким образом появился в их комнате Михей Шутов с двумя своими товарищами — солдатами Николаевым и Никитиным, Все они были теперь равны перед судьбой, сословные различия спали с них, как шелуха. И дорога была общая — в Сибирь.
— Михей, Михей, хороший ты человек, да уж прости ты нас за все, — растроганный, оправдывался Соловьев.
— Вы нас простите, — степенно отвечал фельдфебель. — Через вас мы правду увидели. А пострадать — для нас дело привычное… Да и вы не больно тужите, везде люди, дальше русской земли не прогонят. Благодарение богу, живы остались, может, другим кому глаза откроем!
Приехал в Москву брат Соловьева, Арестанты вздохнули полегче. Брат помог с одежонкой, с питанием. Правда, те деньги, более трехсот рублей, которые он оставил Вениамину, быстро разошлись. Часть раздали другим заключенным, часть проели, а прибереженные на дорогу двести рублей у Соловьева украли, ночью стащили из-под подушки.
Их должны были отправить со дня на день, но тут Быстрицкий запылал в горячке уже по третьему кругу. С ним было совсем худо. Таял на глазах. Они умоляли оставить их до выздоровления Быстрицкого, письмом на имя московского губернатора воззвали к милосердию — тщетные старания.
Первого января 1827 года в лютую метель трое арестантов, закованные в железа, продолжили скорбный путь к Нерчинским рудникам.
Им предстояло идти много дней — зиму, весну, лето, осень, опять зиму… Им предстояло ногами измерить, сколь велика матушка-Россия. Особенно трудны были первые зимние месяцы, на редкость метельные, морозные, куражливые. Московское свое заключение они теперь вспоминали как золотую пору. Разговаривали между собой мало, только по необходимости. Поначалу Саша Мозалевский пробовал делиться с друзьями своими настроениями, какими-то святочными воспоминаниями, но наткнулся на глухую стену непонимания. Бедный прапорщик, самый молодой из них, он не был готов к столь длительному испытанию. Ему, может быть, было тяжелее всех. Не физические лишения убивали его, а невозможность искреннего общения с близким по духу существом. Одно ласковое слово, приветливый взгляд, отблеск надежды могли бы воскресить в нем убывающие силы. Он, привыкший к благородному обращению, воспитанный по законам чести, еще недавно мечтавший положить свою жизнь на алтарь отечества, вдруг очутился на самом дне жизни. И в этой грязи, разврате и пороке, в сообществе людей низменных, первобытных страстей ему, вероятно, предстоит находиться до конца своих дней. Эта мысль была столь ужасна и невероятна, что сводила с ума. Временами он как будто терял зрение, не видел, куда идет, сворачивал с троны, чем навлекал на себя гнев и изощренную брань жандармов. Саша чувствовал себя так, словно его повесили, но не туго затянули петлю, не додушили, и теперь он так и будет по свету мыкаться, полузадавленный, полуживой.
Он завидовал (когда имел силы завидовать) неутомимой ненависти Сухинова, придававшей зловещий, лихорадочный блеск его глазам и делавшей его мускулы стальными. Завидовал отрешенной сосредоточенности Соловьева, который за весь день мог не произнести ни слова и даже не оглянуться по сторонам. Конечно, они были сильнее его, но почему они не хотят поделиться с ним частицей своей силы? Саша думал раньше, что общее несчастье сближает людей. Сейчас ему казалось, что оно ожесточает и отторгает друг от друга самых неразлучных. Все это, конечно, только представлялось угнетенному воображению Мозалевского. Друзья не оставили его своими попечениями и не разлюбили. Но не могли же они знать, что лихой прапорщик ждет от них слов утешения и ласки. Каждый из них был слишком занят собой. Каждому будущее рисовалось сплошным серым пятном, и, чтобы перебороть свинцовую тяжесть отчаяния, они прибегали к лучшему для себя средству. Соловьев по возможности размышлял об отвлеченных материях, философствовал, по многу раз переигрывал и перестраивал прошедшие события, находя новые и новые ошибки; Сухинов, как младенца в люльке, лелеял свое ожесточение. Неожиданно в нем пробудилось жгучее любопытство к тем, кто его окружал, к этим падшим людям, которых общество выбросило за ненадобностью.