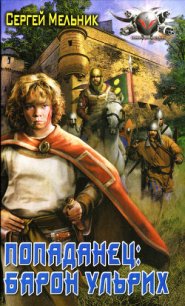Рыжий Будда - Марков Сергей Николаевич (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Но это была ловушка. Через час настоящие пулеметы заработали так, что хунхузы дрогнули и кинулись в разные стороны.
Это была настоящая бойня.
Щеткинцы загнали половину отряда в озеро и там расстреливали его в упор, ловили убегающих сербов и кричали так, что можно было подумать, что здесь действовала целая армия.
Сам Канака спасся чудом; кровь позора заливала его щеки, и, по его словам, он хотел застрелиться после этого первого проигранного им боя.
Так по крайней мере понял все я. Я – штатский человек и мог перепутать все военные тонкости и понять Канаку не так, как нужно.
Во всяком случае, я представил всю картину боя так, как описал ее выше.
– Все? – спросил Юнг и велел Канаке встать. Барон, бледнея, спросил:
– Так неужели они так сильны? Ведь им неоткуда ждать подкрепления… Штаб сообщает, что японцы взяли Читу, Петровский Завод, Верхнеудинск вот-вот падет. Щеткину нужно уходить в Россию… Странно…
При этих словах Канака вдруг рухнул на пол, сложил, как бурхан, ладони и замотал головой.
– Барон, великий барон, – забормотал он, хихикая в жутком веселье. – Отруби хунхузу Канаке сейчас же голову; он виноват, что ему намылили спину, но Канака говорит правду… Японцы ничего не взяли, это ложь.
Канака стукал ребром ладони себя по собственной. шее и просил: «Отруби мне голову, отруби!»
– Шибайло, – закричал Юнг, сбрасывая с себя халат и вытирая пот, – что это значит, откуда получены были сведения о японцах?
– Из Японского штаба…
– Завтра перевешаю всех японцев!!
Юнг схватил папиросу и сунул ее не тем концом в рот.
– Но…
Шибайло отошел в конец комнаты и оттуда, как колеса, выкатил несколько страшных слов, простота которых заставила Юнга снова побелеть.
– Выдадут нас японцы… тогда… красным… – повторил вслед за Шибайло Юнг. – Неужели это может случиться?
Канака по-прежнему раскачивался и хихикал.
– Высокий барон, – сказал он вдруг, – Японский штаб говорил тебе, что у красных нет пушек… Ого! Пусть об этом лучше спросят Канаку. Правда, на одной их батарее я вырезал всю прислугу, и пушки замолчали, но остальные еще будут говорить… не нужно верить японцам, барон… Я сам японец… Я знаю…
– Ну, а Атаман? – перебил Юнг и обернулся к Шибайло. – Ведь у нас есть еще союзники… Чжан-Цзо-Лин, например.
– Ну, а их не придется учить предательству, – громко сказал Шибайло. – В наше время все умеют делать это, – прибавил он и хлопнул себя по багровой лысине.
Мне надоело есть похлебку победителей!
– Антон Збук, вы получаете зеленый горошек от барона Юнга, вы превращены в рабочий скот, победители пользуются вашим трудом и пренебрежительно отмахиваются от вас, когда вы отдыхаете и хотите познакомить победителей с содержимым вашей души.
Так я говорю себе, и мне становится горько и обидно.
О том же Юнге напишут, может быть, статьи и целые книги, когда его будут судить, о нем придется много говорить, но знает ли кто-нибудь, что сейчас на свете существует Антон Збук, сын Збука-отца, человек без родословной?
Узнает ли кто-нибудь, что этот Антон Збук записывал приказы барона Юнга, рассуждал с ним о жизни, получал от него зеленый горошек?
Этот горошек, кажется, начинает делаться пресловутым.
За что они мучат меня?
Раньше, когда иногда задумывался о смерти, я никогда не думал умереть на войне. А теперь мне хочется иногда, чтобы меня расстреляли.
Раньше хотелось другого.
Например.
Улица. Извозчики. Вывеска. На ней слово – не разобрать: «Бани» или «Банк». Я любопытен и силюсь разобрать надпись. С тротуара мне ничего не видно, я выхожу на середину улицы и задираю голову. На высоте десяти саженей, выше, чем сады Семирамиды, – мерцают на солнце золотые буквы. Их гипноз непобедим. Вдруг я слышу падение частых, трещащих искр, и на меня падает явившаяся из хаоса молния. Потом Летит иззубренный, как большой старый пятак, буфер, и я мгновенно всем своим существом понимаю, что мое тело попало под трамвай.
– Бани, – шепчу я в невероятном восторге, совершенно не чувствуя боли.
Я слышу звонки, крики, стук тормозов.
– Бани, а не Банк, – продолжаю шептать я. Меня куда-то тащат.
– Ага, это тот тихий, круглый и зеленый дворик, который я когда-то видел во сне! Здесь улыбались женщины и плакали дети.
Сладкопахнущая короткая трава, а на ней – разбитый аптечный пузырек, красный кирпич под водосточной трубой, наполовину размытый водой, старая метла и еще что-то, поражающее радостью все мое существо.
В границах тихого дворика мечется одинокий плач. Чей он? Неважно, не надо, чтобы здесь плакала невеста, которой у меня нет.
Но успею ли я, успею ли прочесть наклейку на аптечном пузырьке, вспомнить форму золотых букв, чтобы успокоиться хотя бы на этом?
Пусть случится так, как я хочу. Я умру легко и просто, избавив дворников и полицию от втискивания меня на носилках, с которых каплет кровь, в черную дверцу больничной кареты.
Каждый человек думает о том, как он умрет, и я хотел покинуть этот свет так, как описано выше.
Можно также хорошо умереть, отравившись мороженым, подавившись костью, причем умереть, как Сократ.
Умереть на войне для меня раньше было бы тяжелым и неприятным делом. Пуля, клинок, штык… антонов огонь, скоробленные желтые бинты. И почему во всех стихах пули попадают непременно в сердце? Разве приятно валяться где-нибудь без воды и пищи, чувствуя, что у тебя где-то внизу живота застряла чужая пуля?
Конечно, убитого на войне считают героем, иногда дают посмертный Георгиевский крест, печатают портрет в журнале, где через все страницы от твоего портрета помещена в отделе смеси заметка о прожорливом господине из города Лейпцига, съедающем за завтраком сотню яиц, два больших хлеба и пять фунтов колбасы.
… Я всю жизнь бегал от идей, хотя они преследовали меня. Я уклонялся не только от идей собственных, но главное – от чужих. Причины этого в следующем.
Это связано и с вопросом о смерти.
На войне умирают за чужую идею прежде всего.
С какой же стати было мне подставлять свой живот (только не грудь) за какую-то идею, которую кто-то усвоил больше, чем я?
Это значит, что кто-то «нагибает православных», как выражается тот же оренбургский казак, у которого я заимствовал выражение о петушиной тросточке. Умереть под трамваем или отравиться мороженым – почетное дело для лиц, не исповедующих никаких идей.
Я пишу это к тому, что сейчас я, незаметно для самого себя, сделался «идейным» человеком.
Я не могу выносить того порабощения, которое наложил на меня Юнг. Он, кажется, понял меня, разговорчики о Новом Ареане и Гавиальстве, догадавшись, что все это только средство для привлечения интереса к моей особе, которое я пустил в ход, когда мне было нужно.
Я, Антон Збук, хочу теперь славы.
Хочу быть расстрелянным с незавязанными глазами, у столба под бой барабанов!
Хочу, чтобы обо мне говорили, чтобы мое имя произносилось со слезами или гневом.
Я пишу приказы, от которых должно содрогаться человечество, но меня никто не знает.
Я думаю, что теперь кое-что из моих положений становится ясным и понятным всем.
Недавно я писал приказ об объявлений вне закона нескольких человек сразу, причем объявлял за голову одного награду.
Тут меня вдруг охватило исступление, и я проделал одну штучку.
Видите, барон Юнг, эту кляксу на бумаге? Я нарочно посадил ее, потом размазал и оттискал на ней свой большой палец. Печать Антона Збука! О, я сделаю еще не то, а потом поставлю на этом свою пробу, надпись, в духе скульпторов:
«Antonius Sbuc Fecit».
Только дадут ли мне это сделать?
Барон не подписал еще бумаг об объявлении вне закона.
Тогда я подумал так: «Раз я могу казнить людей, я имею, следовательно, и полную возможность спасать их…»
И я спокойно спрятал бумаги в свою бутылку, сделал испуганное лицо и заявил барону, что их унесло ветром через открытое окно.