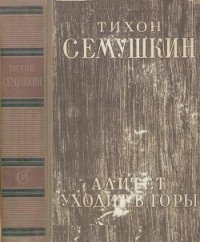Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Директор бурсы не мурлыкал себе под нос, как он это любит делать в хорошем настроении, и даже не ковырял гусиным пером в зубах, когда я вошел в его канцелярию. Он хмуро оглядел меня с ног до головы, потом остановился своими светлыми, как у ангела, глазами на моем лице. Спросил:
— Ты видишь эту тетрадь? Мы читали твою писанину. Что ж, отменно расписываешь своих благодетелей, лучше быть не может.
«Теперь разговор будет короткий, — подумал я со страхом. — Теперь либо — либо, как говорил когда-то наш дедушка. Либо бамбуковая трость, либо вон из бурсы».
— Я лично знаю твоего дядю Петра, — продолжал директор. — Перед тем как ехать в Россию, он написал мне письмо, в котором покорнейше просил зачислить тебя в бурсу. Общество имени Качковского приняло во внимание, что семья твоего отца не имеет средств, что сам отец принужден был уехать в Америку, и потому дали тебе, мальчик, стипендию, чтобы ты мог бесплатно жить и воспитываться у нас, в бурсе, уверенные, что ты сохранишь чувство благодарности к своим благодетелям и вырастешь, что называется, честью и славой нашего дела.
Я, дядя, что-то плохо разобрался в их «делах», ради которых нас кормят пшеном и не пускают гулять, и не очень-то был благодарен вам, дядя, за такую милость, но огрызнуться не посмел, чтобы ангельские очи не потемнели от гнева, чтобы толстые пальцы директора не потянулись порвать в клочья мою тетрадь.
— Ты вполне сознаешь то, что ты здесь намарал? — повысил голос директор.
Я не понял вопроса и лишь пожал плечами да зашмыгал носом, точно собирался заплакать.
— Чего ж ты молчишь?
— Когда отдадите тетрадь, — пробормотал я, опустив глаза, — я все скажу.
— И что ты скажешь?
— Отдайте тетрадку, тогда… — Я не успел закончить, как услышал звук, похожий на звук разрываемой бумаги. Поднял голову и, словно Гиена уже огрел меня тростью, ахнул, бросился к столу, чтобы вырвать у директора надвое располосованный дневник.
— Сожгите, будьте любезны, — велел он Гиене. И директор вынул из кармашка белой жилетки зубочистку, но, прежде чем заняться своим обычным делом (была послеобеденная пора), сказал, поднимаясь из-за стола: — Предупреждаю, сопляк. Мы выбьем из тебя наглость. Вдрызг исколошматим. — А когда я уже был у дверей, бросил вслед: — И уши, лодырь, оторвем, если еще раз осмелишься что-нибудь подобное намарать.
Дорогой дядя, вынужден кончать это невеселое письмо, потому что пишу его не в бурсе, а в школе, на уроках. Будьте здоровы, дядя. Не печальтесь, что не угадали, где мне учиться. Про мое несчастье, дядя, никому ни слова. Пусть мама думает, что мне здесь хорошо живется. А строительный мастер, дядя, может, из меня все-таки выйдет. Хотя бы для того, чтобы сложить этой свинье Гиене могильный склеп, а пока он, пес этакий, жив, выковать ему железную клетку покрепче.
Но что бы там ни было, учиться я постараюсь хорошо. Так что не огорчайтесь, дядя.
Ваш Василь Юркович».
Я тогда не ожидал, что это письмо из Бучача будет последним и что вскорости я сам полечу за ним в свои родные Ольховцы.
Случилось это на второй или на третий день после «приятного» разговора директора со мной. О моем уничтоженном дневнике знала к тому времени вся бурса. Думаю, что слух о моем горе распустил тот, кто подстерег меня и передал тетрадь в руки воспитателя. Этим предателем, думалось мне, мог быть Данько Барсук, невысокий, но плечистый, с увесистыми кулаками и квадратным смуглым лицом, — уж очень ловко он подслуживался к директору и Гиене, а повара умел так улестить, что тот всегда отпускал ему полмиски добавки — похлебки либо каши.
В тот вечер, когда случилось это несчастье, я вместе с другими сидел за длинным столом и учил физику. В комнате было тихо. Один Данько слонялся без дела за нашими спинами, напевая вполголоса разудалую коломийку. Слова хлесткие, и яснее ясного, что на мой счет: несчастный, мол, писака, которого старая кобыла лягнула (и за дело!) — не писал бы в свою тетрадку всякие побасенки против пана бога и папы римского… Я долго сносил насмешки и отозвался, лишь когда сердце у меня начало как молотом ухать в груди.
— Перестань, Данько, ты мешаешь готовить уроки, — попросил я.
Тот сделал вид, что не слышит, и продолжал, взявшись по-бабьи рукой за щеку и покачивая в такт головой, напевать свое. Кто-то прыснул в кулак, иные засмеялись. В таких случаях — особенно когда паясничает и насмехается над тобой более сильный или тот, кто рассчитывает на поддержку учителя, — всегда найдутся подпевалы. Данька поддержали: кто смешком, кто подначкой — лихо, мол, коломийки у тебя получаются…
Терпение мое лопнуло, я сам не помню, как выскочил из- за стола, как очутился перед наглецом.
— Перестанешь ты?!
— То ли перестану, то ли нет, — ответил Данько, скривив рожу. Засунул руки в карманы штанов, и, задрав на манер индюка голову, прошелся вокруг меня. — Пиф-паф, разлюбезный мой сударь. Да кто ты такой, писака, чтобы я тебя послушался?
Данько остановился перед одним из книжных шкафов, которыми была отгорожена наша большая комната от боковушки. Я сам не ожидал, что так получится… что мой удар будет таким сильным. Да и вообще я со злости ничего не соображал. Размахнулся, бацнул Данька кулаком в грудь, тот, потеряв равновесие, ударился спиной о шкаф, шкаф качнулся и сперва потихонечку, потом все стремительнее стал валиться назад, на пол боковушки!
Боже, что я тогда пережил. За эти несколько секунд, пока падал шкаф, я понял весь ужас того, что вот-вот должно произойти: в шкафу помещались дорогие, в позолоченных переплетах книги, они от падения могли повредиться. Что делать? Как остановить падение? Охваченный страхом и отчаянием, я протянул руки к шкафу…
«Боже, мать пресвятая богородица, спаси меня! — кричало все во мне. — Останови его, оста-но-ви-и-и!»
Но бог не услышал меня. Шкаф, зазвенев, стеклом, всей тяжестью ударился об пол, поднял кучу пыли. Заклубившись вверх, она закрыла электрическую лампочку под потолком. Сердце мое упало, я весь покрылся холодной испариной… «Конец, всему конец», — только и смог я подумать.
Мальчишки повыскакивали из-за стола, только я стоял точно одеревенелый, не трогаясь с места. С минуты на минуту можно было ждать появления тонкогубой Гиены с тросточкой в руке, — как раз под боковушкой, куда свалился шкаф, помещалась его комната.
И он не замедлил появиться. Вскочил в зал. Осматривается. Среди всеобщей тишины подходит, пригнулся над разбитым шкафом, спрашивает: «Кто это?»
Данько как ни в чем не бывало кивает на меня, кивает насмешливо: «Они».
Я не оправдываюсь. Я до того был ошеломлен, что даже не упирался, когда воспитатель схватил меня за плечо и толкнул вперед, к дверям. В своей комнате, внизу, он, повернув в дверях ключ, велел ложиться на скамью. Я лег, не имея сил ни возражать, ни просить прощения… Но первый же удар, со свистом, привел меня в себя. Будто раскаленным железным прутом меня хлестнуло раз, другой, третий…
Боже мой, у меня перехватило дыхание, я издал глухой вопль, бессознательно рванулся, схватил палача зубами за руку, когда же он завертелся от боли, швырнул ему в морду тяжелую чернильницу.
Я не ждал, пока воспитатель, оглушенный, залитый чернилами, опомнится, пулей бросился к дверям, повернул ключ и выбежал во двор.
Через полчаса я уже был на станции, на следующий день, после обеда, без чемодана в руках, входил в родной дом.
Зима. День клонится к вечеру. Ветер стих, наворотив свежие сугробы снега, синие холодные тени легли от голых деревьев на заметенные тропки, невидимый художник готовится отправить за гору озябшее солнце, раскладывает для него лесные богатства. Так, по крайней мере, кажется Ильку Покуте, таким он представляет себе небесное светило, даже не способное прогреть за день оконце в его зимней халупе.
Закутавшись в залатанный кожух, засунув руки в рукава, Илько Покута месит снег, бредет засыпанным трактом. Стужа крепчает, лежать бы старому на печи, — за день намерзся со своим буланым на перевозках товара из города, да не тот характер у Илька, не сидится ему дома, раз профессор Юркович объявился на селе. Наоборот, несмотря на заносы и мороз, Илько Покута в хорошем настроении, он бы не прочь и запеть, если бы дело было вечером, а не среди дня. Рад старик за людей: наконец-то они услышат доброе слово, может, и поздравление от самого, государя императора. Профессор Юркович долго хранил, что слышал, про себя (должно, боялся жандармов) и наконец нынче рискнул приехать в село.