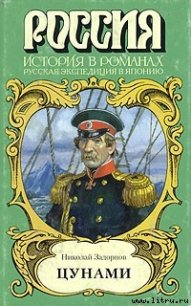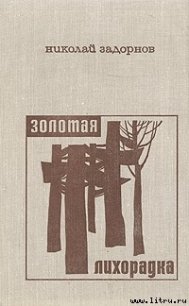Симода - Задорнов Николай Павлович (чтение книг .TXT) 📗
Букреев оставил мешок, закрыв его курткой. Когда все разошлись по работам, он переложил мешок в японскую лодку и подъехал к дому Пьющего Воду. Он внес мешок на плече в лачугу, и вся семья легла ничком на землю, как бы замертво. Матрос поставил мешок стоймя и сам встал на колени, от души желая показать широту натуры, скромность и уживчивость и что не брезгует и не смеется над здешними привычками, хотя это и потеха, по понятиям его товарищей. Вася поклонился головой до гнилой циновки и для утверждения дела еще немного постоял так. Потом вскочил, оглянулся на открытую дверь, не подсмотрел ли кто, и решил, что кланяться больше никогда не будет.
Дети, немытые, в копоти на коже, нечесаные, со скатанными вихрами, как грязные зверята весной, подползли к Васе, когда он осторожно вспорол своим ножом на мешке из соломы тонкую завязку, похожую на мочало, и открылась перламутровая поверхность риса. Японка-мать быстро взяла рис в горсть. Вася снял с пояса и отдал косматой японке-страшилищу свой котелок. Принес с постройки стружку и обломки досок, два кругляша, оставшиеся от бревна, все то, что японцу брать запрещено полицией. Высек огонь и запалил сушь. Очаг сразу загудел. Чашки были такие грязные, что на них, как краска, держался коричневым слоем осадок. Палочки нашлись. Дети ждали терпеливо, когда сварится рис, ни на миг не спуская глаз с котелка. Молодая японка, старшая дочь хозяйки, такая же исхудавшая, как все в этой семье, возилась у очага и, закрываясь краешком платка, похожего на тряпку, тихо и счастливо смеялась. Скулы у нее широкие, а подбородок острый и маленький.
– О-ёё-ё-я-ся, – вдруг сказала она, обращаясь к Васе.
Перед концом работы матрос предупредил Семена Маслова, что задержится по делу по приказу адмирала. Пришлось товарищу признаться, что за дело.
Вечером Маслов сам явился к адмиралу:
– Дозвольте с просьбой обратиться...
– Пожалуйста, Маслов, что тебе?
– Евфимий Васильевич, не дозволите ли со склада взять мешок рису?
– Зачем тебе?
– Я бы дал японцу знакомому. Они бедно живут.
– Которому японцу? Где его дом?
– Да вот от родника по переулку пятый дом, мы проходим на работу мимо.
– Я знаю этот дом. Мне кажется, там живет вдова со взрослыми детьми. Они работать ходят с плотниками.
– Нет... то есть... Это...
– Что значит «это»? Братец, ты сначала пойди и узнай толком, для кого. А потом проси... Ты знаешь, что я не люблю неточности... Что? Ступай! Иди, а то я рассержусь!
«Какие ловкие ребята! Сунь-ка ему палец в рот! Пятьсот тонн риса, видно, всем японкам покоя в деревне не дают! А что такое пятьсот тонн? Тысяча мешков, едва хватит самим... Лишь бы они потомков тут не оставили. Эх, господа офицеры! Чем вы заняты? Где у вас глаза?»
Вася сидел рядом с девушкой в кругу семьи. Она называла его «О-ёё-ё-я-ся». У нее такой же вздернутый вверх нос и широкий в крутом изгибе, как у утки. Матрос и Оки походят друг на друга. У нее, как и у него, высокий лоб и острый подбородок. Но он русый, голубоглазый и рябой. А она черная как смоль, с карими глазами и чистой, гладкой кожей, на щечках сегодня проступил слабый румянец.
Дети легли спать. Ушли вверх по лестнице и родители.
...У нее были маленькие, как бы в робости приподнятые плечи, испуганные глаза вечно голодного, задавленного нуждой существа. Такой она была всегда и такой оставалась в его глазах, когда загасили лучину. Икры ее ног острые и сухие, но странно, что у нее такие груди, сочные и твердые, как камешки.
Удивительно, такая жаркая и нежная она под его рукой, и не верится, как могла созреть в голоде и нищете на одной воде.
«Ну, море по колено! Пусть казнят – на ночь в лагерь не пойду!..»
Ночью Вася проснулся и подумал, что все же лучше бы не идти под суд. Если же утром спохватятся, наказания не избежать. Он вспомнил разные наказания, которым подвергали матросов. А он еще жалобил адмирала, говорил про бедных. Теперь представил, как докладывают, что Букреев провинился и в чем... Евфимий Васильевич насупился, молчит, обиделся на него. Подвел его матрос! В кои-то веки ему поверил! Путятин богомольный, доверчивый. Ваське стало жаль и себя, и адмирала.
Он потрогал руку японки. Она не спала и чего-то ждала.
– Яся! – сказала она.
Он не хотел подводить адмирала, злобить его на своих товарищей. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
– Кико... я пойду в лагерь... А то меня хватятся и расстреляют как дезертира. Вчера Маслов меня выручил, а «мордобой» пронюхает утром...
Яся, щелкая языком и проделывая разные движения руками, всегда мог объясниться с японцем. Но говорить по-японски он так и не научился и сейчас очень жалел, что японка его не понимает. Она ему что-то отвечала, может быть, просила приходить еще, что отец и мать, может быть, будут очень рады. И все говорила «Яся» или «О-ёё-ё-я-ся».
– А ребят трогать не позволяй, хотя у вас грехом, может, и не считается, но чтобы того не было... Убить нельзя, самый страшный грех... У нас в России выкидыш кто сделает, и то страшный грех. А я буду живой, здоровый, еще приду к тебе.
Японка что-то сообразила и успокоилась.
Матрос вскочил проворно. По сопкам, как тать в ночи, и потом по улицам без фонаря, под страхом смерти от сабель, охранявших селение самураев, которые обязаны рубить насмерть каждого, кто ходит без огня, – так объяснили матросам, – он добирался до городьбы лагеря, похожего на тюремный двор. Прямо подошел к японцу-полицейскому у загородки, сунул ему несколько дырявых монет, которые зашиб у юнкера за починку сапог, и попросил его крутиться, как по ветру. Японец спрятал деньги в мешок рукава и, обернувшись, по-европейски четко и топнув сапогом, уткнулся носом между двух вбитых бревен, как бы ничего не видя. Вася перескочил городьбу. Дальше были все свои, лишь бы спал боцман Иван Терентьич.
– Зачем же тебе погибать? – успокоил Ваську утром друг Янка, выслушав его исповедь. – Тебя никто не хватился. Маслов крикнул в потемках на поверке, и кто-то из ребят вышел... Никто не выдал.
После работы, когда пешком пришли на обед, Вася и Янка опять разговорились про вчерашний день.
– Вот и будешь с ней жить, как с женой, – сказал Берзинь. – Как и я со своей! Только осторожней ходи и не каждый день. Родители будут довольны и она.
– Да и они...
– У них бедняки продают детей кому угодно. Это у них принято. Ты думаешь, у нас в Питере такого не бывает?
Янка хороший товарищ, пообещал достать кувшин сакэ.
– Я тебе принесу, а ты отнеси ее отцу, угости. Ему приятно будет. Это очень прилично так. Японцы всегда любят уважение. Ты семье помог, а теперь – ему, лично. Хорошо будет. А я сакэ достану. Когда еще будет надо – только скажи. Я боцману тоже достаю.
– Спасибо... А где же ты сакэ достаешь?
– Да все там же...
– А-а...
– У нее, словом...
Янка решил, что теперь и он может открыть товарищу свою опасную тайну. Янка первый из всех, придя в Хэда, в первый же день встретился с японкой за усадьбой самурая в бамбуках, он ее и не рассмотрел хорошо. Может, что-то почуял самурай, встретив Яна, и вечером выселил матросов из своего дома. Не узнала ни одна живая душа. Оказалось, что японка немолодая, по лицу не разберешь, сколько лет, но телом крепкая, служит в усадьбе самурая. Видно, вдова. Янка стал к ней похаживать. Оказалось, что бабенка заведует продуктами у Ябадоо.
– Она и не шибко старенькая, – объяснял Берзинь. – Я тогда сошелся с ней в роще, в бамбуках. Тесно там, бамбуки густые. А она, оказывается, вроде экономки или подшкипера у самурая. У него весь дом стоит на женщинах... Она заведует сакэ и припасами. Как я иду домой, она мне кувшинчик! И набьет карманы печеньем. А я его не ем. Не могу есть из водорослей, хотя бы из муки... Раздам ребятишкам, а сам боюсь, как бы не дознались. Я тебе буду отдавать, а ты относи своей. И у нас теперь есть помещение...
– Вон что! – удивился Букреев.
– Она меня кормит и поит и дает на дорогу пряников. А меня тошнит от их пищи. У самурая есть корова, и он на ней пахал и ездил, – рассказывал Янка. – А корова отелилась. Я ее раздоил... И хорошее молоко стала давать. Я как приду, у моей есть своя лачужка, я пойду в загон, подою корову. Она сначала не давала доить, показывала себе на грудь, на соски, и стыдилась за меня, упрекала. А потом поняла, что мне от коровы ничего, кроме молока, не надо! Эх, брат, очень хорошее молоко! Они прежде работали на коровах, как на быках. А самурай нас один раз выследил и зашел. И видит – я дою корову. Я говорю ему – адмирал! Смотрел он, потом сел на корточки – и давай сам доить корову. Теперь я хожу не через рощу, а прямо к ней, он увидит меня и закроет лицо ладонью. Мол, не вижу. Он гордый, что за триста лет его корова дала первое молоко в Японии для питья. Я еще обещал его научить есть творог и сметану.