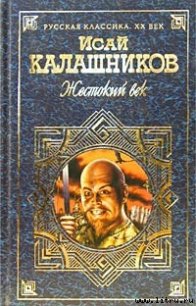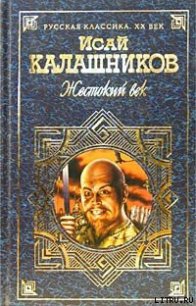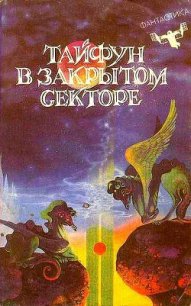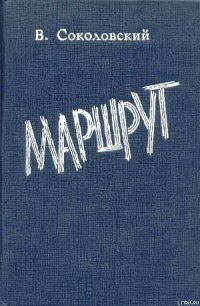Разрыв-трава - Калашников Исай Калистратович (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Кое-как распродав мясо, он походил по магазинам, купил себе пару крепких штанов, материи на рубахи. Усте в подарок сережки с цветными стекляшками.
За два дня рассчитывал добежать до дому, но и тут задержка вышла: в пути его прихватила пурга. Дорогу перемело. Колеса со скрипом резали сугробы, запаренные лошади еле тащились. В Тугнуе ветер гулял лихо, с завыванием и свистом. Снежная пыль стлалась по земле косматыми жгутами. Корнюха, согреваясь, шагал за телегой, на подъемах упирался плечом, подталкивая воз. Как ни старался, только на третий день вечером дотянул до Тайшихи. На улице за домами было затишье. Взбаламученным туманом кружилась у окон снежная пыль и оседала в суметы.
Подъезжая к дому Пискуна, он услышал смятую ветром песню, лихие переборы гармошки, подумал: «Эге, кто-то дымит крепко! Не мешало бы сейчас попасть в застолицу да чебурахнуть огненной самогонки. Хороша, стерва, с морозу!»
Все ставни дома Пискуна были раскрыты, окна светились необычно ярко. С улицы, повиснув на наличниках, в дом засматривали ребята. Сердце у Корнюхи екнуло, затрепыхалось, распирая грудь. Бросив лошадей у ворот, он понужнул ребятишек и заглянул в заиндевевшее окошко. В доме дым коромыслом. Бабы, мужики, празднично одетые, сидят за столами, уставленными бутылками, закусью, а меж столами вертится в пляске, трясет рыжей бородой Еремка Кузнецов.
Корнюха рысью побежал в дом. В сенях, у дверей казенки столкнулся с Хавроньей. В одной руке она держала свечу, в другой чашку, полную соленых рыжиков.
— Что тут делается? — он схватил ее за проймы сарафана. — Что? Говори скорее!
— Свадьба, Корнюшенька. Сподобил господь, внял моим вдовьим мольбам…
— У-у, ведьма старая! — выбил из ее рук чашку, заскочил в избу и защелкнул на крючок дверь за собой.
Теплом, густым сивушным духом, запахом стряпни пахнуло в лицо; пьяная воркотня гармошки, стук каблуков, крики, звон посуды, нескладная песня все звуки смешались, сплелись в один клубок, обрушились на Корнюху.
В переднем углу под образами в бабьей кичке, румяная, несказанно красивая, стояла Устюха. Огни сверкали, дробились в бисере ее убора, в янтаре ожерелий, в стекле бус, трепетали на кольцах сережек.
— Горько! — разноголосо орали гости.
Прямо перед ним, заслоняя Устю, привскакивал затылок Тараски Акинфеева. Тараска размахивал стаканом и утробным ревом перекрывал разноголосицу пьяного застолья.
— Горька-а-а! Целуй ее, Агапка, не то я свою бабу целовать зачну! Горька-а-а!
Хохот, шум.
«Чтоб ты сдох, сволочь толстобрюхая!»
Блестя прилизанной, смазанной коровьим маслом головой, Агапка приподнялся на цыпочки, обхватил Устюху за плечи и, как телок к сиське, потянулся к ее губам. Качнулось застолье, завертелось разноцветным хороводом… Корнюха на мгновение прикрыл глаза.
В дверь изо всех сил колотила Хавронья. На стук стали оборачиваться и увидели Корнюху.
— Корнейка, друг ты мой дорогой!.. — завопил Тараска, ткнул свою бабу в бок: — Очисть место! Садись сюда!..
И подскочил, вцепился в рукав полушубка, потянул к столу.
— Отойди!.. — Корнюха двинул его плечом, стуча мерзлыми ичигами, прошел вперед, остановился против молодых.
Полушубок, шапка ли, забитая снегом, или что-то неладное в лице его, во взгляде утихомирили застолье. Все смотрели на него. И Устя смотрела немигающими глазами строго и отчужденно.
За его спиной что-то визгливо выкрикивала Хавронья, гудели, уговаривая ее, мужики.
— Налейте ему! — сказала Устя. — Выпей, Корнюшка, за мое счастье-злосчастье, за долю-неволю. И я с тобой выпью.
Она подняла тонконогую рюмку, потянулась к нему. Ему кто-то услужливо подал граненый стакан, налитый доверху. Опершись одной рукой о чью-то спину, он перегнулся через стол, дотронулся стаканом до ее рюмки. Устя зажмурилась, опрокинула рюмку и, пустую, показала Корнюхе. А он пил медленно, маленькими глотками, не чувствуя горечи самогона. Выпив, обтер губы, повертел стакан, попросил:
— Налейте еще…
Сам Пискун подбежал с бутылкой, наполнил стакан, шепотком похвастал:
— Это еще николаевская… Такой теперь нигде нету.
— Что тебе сказать, Устя? — спросил он почти спокойно и тут же сорвался на крик: — Змея зеленоглазая! Сука меделянская! — и выплеснул водку ей в лицо.
На мгновение замерло все застолье, потом дружно ахнуло. Дальний родич Пискуна Анисим Нефедыч Кравцов, мужик лысый, краснорожий, медведем всплыл над столом, спросил заикаясь:
— Эт-та что-о т-такое?
— А вот что! — Корнюха запустил в него стаканом, но промазал. Стакан расшибся о стену, осыпая стол осколками.
Не помнил Корнюха, что было дальше. Рев, бабий визг, удары, шум в голове и острая боль в боку и беспамятство…
Очнулся дома на кровати. Возле него стояли братья, Татьянка и Тараска с Лучкой Богомазовым. Вся рубаха на Тараске была изодрана в клочья, на белой мягкой груди кровоточила глубокая царапина, нос вздулся, расплылся на пол-лица. И Лучка тоже был ободран, на левом глазу у него лиловел синяк, все лицо пестрело ссадинами.
— Смотри, глазами лупает! — засмеялся Тараска, наклонился над ним. — А мы думали, что тебе каюк. Ну давай, оживай. Ты нам с Лучкой не одну бутылку должен поставить. Быть бы тебе сегодня покойником, кабы не мы с Лучкой. Верно я говорю, Лучка? От целых ста человек отбились. Нет, есть в нас еще партизанская закваска! Еще могем бодаться.
Крепко изуродовали мужики Корнюху. Разбили голову, вывихнули руку. Поправлялся он долго и трудно. Безучастный ко всему, худой, бородатый, лежал на кровати, целыми днями разглядывал щели в потолке. Все утеряно. Худосочный Агапка взял верх: то, чего он, Корнюха, не мог добиться ни удалью, ни ловкостью, Агапке само пришло в руки. Вот она, жизнь… Что значит сила и удаль, если ни двора, ни кола и сам без малого голопузый…
Приходил раза два Лазурька, допытывался, как было дело, по какой причине случилась драка. Корнюха отмалчивался или говорил ничего не значащие слова:
— Так… По дурости…
— Дурости у тебя хватает, — соглашался Лазурька. — Но об этом разговор впереди. Поправляйся.
О чем он хочет говорить, не о Насте ли? Может, и о ней. Но разговор этот без пользы будет.
Однажды, когда в избе не было ни Максима, ни Татьянки, на край кровати присел Игнат, отводя взгляд в сторону, спросил:
— Ты про женитьбу что-нибудь думаешь?
— Уже женился… горько усмехнулся Корнюха. Сыграл свою свадьбу.
— А Настя?
— Настя? Что она мне, Настя?
— Не прикидывайся недоумком! — к лицу Игната прилила кровь. Поломал ей жизню! Куда она теперь с брюхом-то?
У Корнюхи засосало под ложечкой. Настя брюхатая? Вот это ловко!
— Я уезжаю на мельницу, там буду жить, — говорил Игнат с напряжением в голосе. — А ты уладь все по-людски. Да и зачем тебе крутиться, разве сыщешь лучше Настюхи? Пойду, попрошу, чтобы пришла.
— Подожди-ка, Игнат…
— Чего ждать? Лежи и думай, как перед ней повиниться. Он надеялся, что Настя не придет. Но она пришла, остановилась у дверей, спросила:
— Зачем звал?
Переменилась Настя. В карих с рыжими пятнышками глазах уже не было бесшабашного озорства, они смотрели невесело.
— Подай водицы.
— Настя принесла ковш воды, отвернулась к окну.
— Ребенка ждешь?
— Жду.
— Отец узнает об этом последним?
— У него нет отца.
— Болтай больше…
Настя промолчала. Ногтем на обмерзшей стеклине она рисовала домик с трубой и косыми окнами. Корнюха смотрел на нее, и что-то прежнее, забытое шевельнулось в его душе, пахнуло на него теплом былых радостей.
— Ты знаешь что… Жизнь нам надо налаживать. А, Настюха?
— Не получится, Корнюшка. Об жизни у нас разговоры были раньше. Много разговаривали…
— Укоряешь? Конь на четырех ногах, и то спотыкается.
— Спотычки всякие бывают. Ты думаешь: Настя подстилка, когда захотел, тогда и разостлал. Не вышло там, выйдет тут. Настя что дура, только пальцем помани, побежит, как собака за возом. Нет, Корнюшка, — она перечеркнула нарисованный домик и стерла его горячей ладонью.