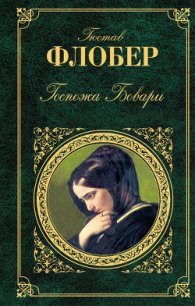Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Я уже сказал, что со всеми этими письмами моя совесть как-то мирилась. Особенно после того, как прошлой зимой, зайдя в аптеку якобы за пилюлями от кашля, я сказал Рихману несколько слов по поводу, как я считал, самых важных из них. Разве я не был их союзником! А к Розенмарку я с этим пойти не мог. Значит, не эти письма… Но почему-то именно одно конкретное, которое госпожа велела мне написать уже после переселения Якоба, явилось, как мне кажется, тем перышком, которое переломило хребет верблюду моего терпения.
Расквартирование Кексгольмского полка, наше обычно осеннее наказание, в этом году свалилось нам на голову весной. В господском доме, где теперь пустовало двадцать пять комнат, поместили не полкового, а более высокого начальника, генерал-майора фон Дерфельда, племянника госпожи Тизенхаузен. В доме управляющего мызой и в других зданиях разместили полковника, нескольких майоров и лейтенантов, полкового священника, казначея, несколько унтеров и обозных. Большая часть солдат была расквартирована в городе. Так что все городские дома и лачуги были ими переполнены, а конюшни и дворы забиты лошадьми и телегами. Нескольких городских жителей офицеры просто выставили на улицу. Ну, такое, как говорят, здесь и прежде случалось. Однако сейчас мне вдруг бросилось в глаза: кого больше всех притеснили при этом расквартировании? Линда и Бадера — судейских присяжных, особенно ненавистных госпоже Тизенхаузен, кузнеца Тёпфера, известного своими враждебными мызе разговорами, сапожника Симсона, ну, этот известно кем был, и так далее, все по тому же принципу. Розенмарка непосредственно притеснить не смогли: он тут же снял для этой цели дом — будьте любезны, размещайтесь. И Рихмана прямо на улицу тоже не выставили. По-моему, при этом расквартировании обычно придерживались правила: в домах ученых людей, в том числе и аптекарей, военных в принудительном порядке не размещать. Но в отношении Рихмана по распоряжению генерал-майора фон Дерфельда внесли изменение и вселили к нему четырех лейтенантов с их денщиками плюс несколько унтеров. И аптекарю пришлось вместе с какаду переселиться в лабораторию.
Во время этих событий госпожа позвала меня к себе я велела написать генерал-губернатору очередное письмо (по форме конечно же самой императрице). Она сообщала в нем, что мыза ее до последней возможности заселена офицерами и унтер-офицерами Кексгольмского полка. Да-да. На ее мызе для размещения армии предусмотрено пять зданий (как того требовал закон, предписанный мызам, превышающим пятьдесят адрамаа, а таких в Раквере была одна или с грехом пополам полторы), и все пять забиты людьми. Но из-за долгой зимы и затяжной весны у нее на мызе кончились дрова. Так что пусть казна даст мызе топливо для постоя. Во-вторых, слишком велико количество размещенных на мызе лиц, в то время как в городе, мол, достаточно свободных помещений. И, не считаясь с фактами, она перечислила подряд все неугодные ей или, скажем, наиболее неугодные дома: Рихмана (что было откровенной ложью), Розенмарка (по отношению к которому это было ну… не полной правдой, тем более что Мааде предстояло скоро рожать), Яаана, Линде, Бадера, Тёпфера (последнего выставили из его дома на улицу), Симсона и других. И тут же она вдруг стала в позу защитницы самого бедного населения города. Да-да: с одним бедняком ремесленником при размещении обошлись ужасно несправедливо, какой-то майор пригрозил выгнать его из его собственного дома. Этот бедный и весьма порядочный человек — стекольщик Крудоп. И госпожа призывала генерал-майора (формально, значит, самое императрицу) помочь этому порядочному человеку и освободить его от повинности расквартирования… Почему она этот вопрос не решила непосредственно через своего племянника, мне поначалу было непонятно — пока стекольщику действительно, по распоряжению генерала, не позволили вернуться в свой дом. Однако от Рихмана я точно знал: этот весьма порядочный Крудоп — человек с тупым лицом, бегающими глазами, полуглухой (к которому, однако, в нужном или, скорее, совсем в ненужном случае возвращался на удивление острый слух), был наушником госпожи Тизенхаузен среди жителей Раквере.
Для моего решения уже этого было бы достаточно. Но прибавилось еще одно обстоятельство. Однажды утром, когда я приступал с мальчиками к уроку истории, теперь уже тринадцатилетний Густав спросил:
— Господин Беренд, а вы пили когда-нибудь шампанское?
— Шампанское? Нет, не приходилось.
— А мы пили. И я, и Бертрам.
— Ого?! Когда же это? И каким образом?
— Вчера. За кофе. Бабушка угостила. Она пила сама и предложила дяде Дерфельдену, а потом и нам. Мы получили по половине маленького бокала.
— А по какому же поводу?
— Да я не знаю. Какая-то коллегия в Петербурге признала бабушкино право. Ну, на нашу блошиную деревню. И бабушка пообещала, что самое позднее осенью она угостит нас целым бокалом. Окончательное решение должно быть принято осенью.
— И ничего в нем нет особенного, — надменно произнес десятилетний Бертром, — в точности как кисловатая медовуха Прехеля. Только пены побольше.
Рихман сказал: один считает искуплением для себя действия, другой — знания, третий — бог знает что еще.
Я не считаю, что полностью отношусь ко второй или третьей категории, скорее, наверно, к третьей — к тем людям, которые думают, что для них искуплением может служить очень разное. А на этот раз я вдруг оказался в первой категории, во мне созрело решение действовать. Бог мой, если Георг Рихман, движимый научной жаждой, зазвал к себе в комнату молнию, то разве можно считать героическим поступком, если кто-то, обуреваемый жаждой справедливости, явится на глаза этому сиятельству из лакеев и попытается словами невозможное сделать возможным…
Два дня я думал, каким способом лучше действовать.
Я знал, что копии, снятые мною в прошлом году с раквереских бумаг, и их переводы находятся у Розенмарка. Через день я пошел в трактир, нашел хозяина в жилой комнате за прилавком и попросил посмотреть эти бумаги. К слову сказать, постарался войти в его комнату так, чтобы кровать, на которой мы с Мааде лежали, оказалась у меня за спиной. Но кровати там уже не было. И нужные мне документы уже тоже находились не там.
— Ах, те? А зачем вам они?
— Припомнить некоторые события, происходившие в городе. А то забываются.
— Да-да. Но я держу эти бумаги дома. В железном шкафу. На всякий случай, понимаете. Так что приходите завтра вечером к нам. Вы уже давно у нас не были.
Он был чем-то раздосадован, какой-то озабоченный и несколько похудевший. Но — дружественный, как и в последний раз. И он сам позвал меня к ним.
— Знаете что, пойдемте во вторую комнату, — сказал он на следующий вечер, встречая меня, — сюда может кто-нибудь войти и заинтересоваться, если вы будете просматривать эти бумаги здесь…
Следуя за ним в другую комнату, я сказал:
— Поприветствуйте от меня госпожу Магдалену. Как она поживает?
— Неплохо, неплохо. Теперь это уже совсем скоро, — ответил хозяин, усаживая меня за маленький стол и положив передо мной бумаги, вынутые из железного шкафа. Он спросил, много ли мне потребуется времени, чтобы их просмотреть. Я ответил: если ему не помешает, то час или, может быть, даже два. На что он сказал:
— Тогда самое лучшее, если я оставлю вас здесь с бумагами, а через час или два приду, и тогда будем пить чай.
Иохан положил рядом с подсвечником запасную свечу и ушел. Я остался один в маленькой комнате с несколькими табуретками, столиком и выкрашенным коричневой краской железным шкафом. Я достал принесенные с мызы листы чистой бумаги и стал выписывать из городских документов то, что было существенно для моего плана. И при этом думал: я нахожусь сейчас под одной крышей с Мааде… Она где-то здесь. Наверно, по другую сторону этой стены с серыми обоями… И к чаю она, конечно, потом не выйдет. Раза три-четыре, после каждого десятиминутного полного погружения в работу, я откладывал гусиное Неро, упирался ладонями в край стола, закрывал глаза и, собрав всю внутреннюю волю, как заклинание, повторял: «Приди сюда! Приди сюда! Приди сюда!», потом продолжал писать, испытывая неловкость за свое смехотворное колдовство. Щелкнула дверная ручка — и Мааде вошла в комнату.