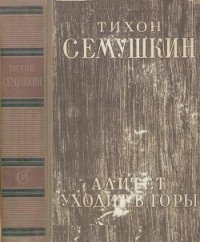Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Го-го, Иванцю! — вдруг услышал в стороне чей-то радостный, словно бы знакомый, оклик. — Неужели ты, Юркович?
Иван обернулся и увидел перед собой загорелого, голого до пояса человека, только что выскочившего с рушником из- под обрывистого берега реки.
— Ежи? — не поверил Иван.
— А то кто же? Ежи Пьонтек, тот, что два года назад пожелал тебе вагон удачи и мешок долларов.
Сойдясь, они подали друг другу руки, по-дружески обнялись.
— Миллионер?
— Миллионер. Думаю вон ту фабрику купить.
Обняв, как в юности, друг друга за плечи, подошли к травянистой кромке оврага, сели на мягкий ее коврик, спустили ноги с кручи. Иван достал пачку сигарет с золотыми ободками, угостил Ежи и сам закурил.
— Два года не был здесь, — сказал, подставив лицо солнцу, Затянулся дымом, пустил несколько сизых колец, задумчиво улыбнулся. — Захотелось по берегу реки пройтись.
— Да на свою землю взглянуть, — подсказал Ежи. — Признайся, Иванцю, небось там, в Америке, снилась твоя нивка?
— И не раз, Ежи.
— Знаю. Так же, как мне паровоз. — В голосе Ежи зазвучали грустные нотки. — Чудно, Иванцю. То слышу сквозь сон гудки паровоза, на котором больше десятка лет ездил, то вижу, будто он сам, без рельсов, под мое окно подъезжает, зовет человечьим голосом: «Выходи, Ежи, выходи, не залеживайся…»
— Что ты говоришь? — дивился Иван. — Изо дня в день на нем и он еще снится тебе? И не надоело тебе?
— Изо дня в день? Го-го-о, Иванцю! — Ежи имел привычку никогда не падать духом, по крайней мере на людях, и даже самой большой беде бросал в глаза свое веселое «го- го-о!». — Было время, да прошло, Иванцю. А теперь, видишь, — купаюсь да вылеживаюсь, как знатный пан.
— А работа?
— Вот уже пятый месяц гуляю. Только музыки с танцами не хватает.
— Ишь ты, какое дело! — огорчился Иван. Он легко представил себе, что значит остаться без работы для такого чистого пролетария, как Ежи, да еще с его семьей, одних детей трое! — То-то, Ежи, эти паровозы и приходят к тебе под самые окна… — Иван выплюнул сигарету. — Не понимаю. Кто тебя, ляха, мог снять с паровоза? Ладно бы кого из нас, русинов, мы здесь бесправные, а вы, а ты, Ежи…
— Когда дело касается классовых интересов, — перешел на серьезный тон Ежи, — тогда, Иван, нет наций. Есть рабочие и капиталисты. Вот директор Древновский — польский патриот, по крайней мере так в газетах о нем пишут, а он не задумался выбросить за ворота фабрики другого польского патриота: тот осмелился выступить на защиту рабочих интересов.
— Подожди, Ежи. При чем тут фабрика и Древновский? Ты же служил на казенной железной дороге. Машинист пассажирских поездов. Ты, Ежи, вез меня два года назад из Санока в Краков.
— Го-го-о, Иванцю! — Ежи обхватил Ивана за плечи, заглянул ему, посмеиваясь, в глаза. — Милый Иванцю, то случилось, когда у тебя еще не было этих морщин на лице, а твои глаза сливались с синевой неба. С той поры я побывал под арестом и стал своим человеком в жандармерии. Я нанялся было на фабрику — выталкивать из цеха новые вагоны, но, как видишь, и там не удержался: волчий билет в руки и — за ворота, пан машинист, ступай, купайся в Сане.
— За что же?
— Официально — за бунт, на который подбивал рабочих, а по-нашему — за организацию забастовки, за то, что высказал правду директору Древновскому.
Иван провел ладонью по мокрой голове Ежи, пригладил вихор, торчавший, сколько он помнил, с мальчишеских лет.
— То-то, брат, ты поседел за эти два года.
— Го-го-о, поседел! Не велика беда! Волосы можно подкрасить, Иванцю. Ты б, Иванцю, поглядел на голову пана директора! — Ежи громко расхохотался, его, верно, слышали на том берегу. — Пан Древновский совсем облысел, пока пришла помощь из Вены и забастовка была подавлена.
Посмеявшись, Иван еще раз угостил друга американскими сигаретами. Пуская колечки дыма и щуря глаза от солнца, обменивались новостями, вспоминали всякую всячину, прислушивались к плеску воды под берегом, бросали вниз камешки и думали каждый о своем. Ежи о том, как нынче встретят его дома, что скажет жене, когда он вернется с тем же, что вчера… Хотя нынче будет чем утешить Зосю. Скажет: «Возьму пример с Юрковича. Подамся за долларами в Америку. И вернусь, кохана моя Зосю, миллионером…»
Иван попыхивает сигаретой, смотрит вверх, туда, против течения, вспоминает далекие дни, когда пас с ребятами недалеко от брода корову, а заодно воевал с ляхами.
На броду и встретился впервые с поляком Ежи. Как-то случилось, что в битве левого и правого берега победила ребячья ватага ольховецких русинов. После отчаянной атаки камнями (их полно было под ногами, плоских, отшлифованных водой) ляхи вынуждены были оставить Сан и даже свой пологий берег. Посреди реки остался лишь загорелый до черноты мальчишка, против него — он, Иванко. Обоюдной ненавистью горели их глаза. Готовясь к последнему бою, сжимая кулаки, они начали с самых хлестких, колючих, оскорбительных слов.
— Ты, лях, — прошипел Иванко.
— А ты русин, — ответил бесстрашный Ежи.
— Лях кобылу тяг!
— А ты хлоп, быдло!
Этого — было достаточно, чтобы задеть Иванка за живое. Он размахнулся, но верткий Ежи не из тех, кто подставляот свою голову со смешным черным вихром под чужие кулаки. Он сам умеет бить. Знай, как ляхи бьют! Потом они сцепились руками, стараясь подмять друг друга и добраться до горла. Коренастый Иванко процедил сквозь зубы: «А вот так русины бьют. Проси пощады, лях!..» Но Ежи не робкого десятка, он сам умел отвалтузить за милую душу…
Быстрое течение и скользкие, сточенные водой камни были третьей силой, помогавшей то одному, то другому. Ежи теряет равновесие, взмахивает руками, падает и с головой исчезает под водою.
«Боже, что я наделал!» Не раздумывая, Иванко бросается за ним, перебарывает быстрину, хватает Ежи за руку, и, теряя последние силы, с трудом добираются вместе до берега.
— Разве я этого хотел, Ежи, — говорит русин поляку, которого недавно ненавидел и, казалось, готов был задушить. — Не сердись на меня, я больше никогда не буду. — Когда вернулись после преследования левобережного «врага» ребята, сказал им на правах не дающего потачки главаря: — Слышите? Ежи Пьонтек его зовут. Чтобы никто пальцем не смел тронуть. Больше, с ляхами не воюем.
— Ну, так что ж, Иванцю, — нарушил молчание Ежи. — Рассказывай, как жил, как доллары заколачивал?
Не из веселых был рассказ Ивана, — по крайней мере, совсем не то, что ожидал услышать Ежи: тяжелые условия труда, социальное неравенство, самоуправство надсмотрщиков и администрации. Никак не вязалось это с тем, о чем кричали газеты, расхваливая американскую демократию, свободу и равенство. А убийство негра Джона и обвал в шахте, после которого не вернулся на поверхность побратим Ивана из-под Кракова, прямо-таки ошарашили Ежи.
— Видишь, на чьих костях строят американцы свое благосостояние, — проговорил он, покачивая головой. — Опять- таки на наших костях.
За разговорами они не услышали, как подошел ольховецкий священник Кручинский. У его священства выработалась полезная привычка: с ранней весны до поздней осени, не пропуская ни одного погожего дня, прогуливаться по берегу реки. После обеда он неизменно совершал свой ежедневный моцион. Не желая обрастать жиром, он после еды не примащивался на диван в кабинете, как это делали другие священники. Кручинский был подтянут, мускулист и всегда готов, не будь на нем длинной сутаны священника, вскочить верхом на коня, взбежать крутыми тропками в гору или сесть за весла, как это бывало, когда он еще студентом приезжал из Львова на вакации к родному отцу.
Сегодня Кручинский не просто прогуливался, его голова была озабочена тем, с какими убедительными предложениями выступить ему завтра перед просветительским обществом в Саноке, — он подыскивал слова, которые могли бы поднять дух первых пионеров новой партии. Положение «Просвиты» в уезде было малоутешительным. Одинокие интеллигенты — адвокаты, врачи, учителя, чиновники, — которые присоединились к уездному обществу «Просвита», чувствовали, что у них недостаточно сил, чтобы распространить свое влияние на села. Уездное общество не имело филиалов на окраинах уезда и фактически было не уездным, а городским, саноцким.