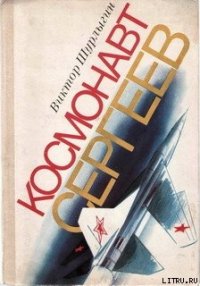Севастопольская страда. Том 2 - Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
III
Прекрасный остроумный собеседник, всегда превосходно чувствовавший себя за любым столом, человек очень еще крепкого здоровья, несмотря на преклонные годы, и весьма располагающей к нему внешности, Пальмерстон был встречен очень радушно Наполеоном и императрицей Евгенией, хотя цели его визита были им заранее известны, и нельзя сказать, чтобы они были приятны Наполеону.
Наполеон знал, конечно, Пальмерстона гораздо лучше, чем те, которые признавали его либералом, вигом по партии, к которой он принадлежал и которую возглавлял даже; для него он был истый тори, консерватор.
Он помнил фразу из одной его недавней речи: «Век, в который мы живем, есть век прогресса, а не реформ», и этой фразы было для него довольно.
Он считал Пальмерстона в числе своих друзей, потому что тот в декабре 1851 года должен был выйти из кабинета Росселя и прервать тем на время свою политическую карьеру из-за восторженного отношения своего к государственному перевороту во Франции, послужившему прологом к восстановлению империи. Друзьями же своими Наполеон дорожил, так как был подозрителен и видел их около себя очень мало.
Наполеон много сделал для дворца в Сен-Клу, где он жил и где принимал теперь Пальмерстона. При Луи-Филиппе дворец этот не то чтобы был запущен, но гораздо менее изящен и менее уютен внутри; кроме того, при нем было в этом дворце гораздо менее порядка, но зато много суетни, которая казалась совершенно излишней. Это прежде всего и бросилось в глаза английскому дипломату. Когда же он был представлен императрице Евгении, то сумел совершенно непритворно поразиться ее красотою, ее грацией и приветливостью обращения. Это создало хорошую почву для будущих переговоров по вопросу о войне на Востоке, тем более что знатный гость из союзной страны был приглашен к завтраку в семейной обстановке.
Однако Пальмерстон, сам в совершенстве владевший искусством скрывать до удобнейшего времени свои мысли, как бы ни были они важны по существу, удивлялся, что встретил подобное же искусство в человеке, так сравнительно недавно еще приобщившемся к государственным делам и тайнам.
Перед завтраком говорилось о королеве Виктории и ее семье, о принце Альберте, который в сентябре сделал визит Наполеону и будто бы изумил его своими глубокими познаниями в самых разнообразных вопросах, об Орлеанах [19], которые после изгнания из Франции нашли себе приют в Англии, о новшествах во внешнем виде дворца и старинного парка при нем, создании знаменитого садовника Ленотра. За завтраком говорили о всемирной выставке, которую готовились в следующем году открывать в Париже. Этим вопросом была особенно занята Евгения. Она сообщила гостю и о том, что на выставке этой будет показан, между прочим, колоссальной величины бриллиант, который после окончательной обработки будет весить свыше ста двадцати каратов и стоить пять миллионов франков.
Пальмерстон восхищался искусно, льстил умело и бесподобно, наблюдал зорко, запоминал крепко, делал выводы про себя точно и быстро: преклонные годы не сломили в нем ни одного из счастливых свойств полнокровной, упругой зрелости.
Он, конечно, во всех подробностях, какие были возможны, знал многое из того, что теперь слышал, например о готовящейся в Париже всемирной выставке, которая, кроме успехов промышленности, должна была показать и успехи мирового искусства. Он знал, что знаменитый немецкий художник Корнелиус собирает для этой цели все свои картины и пришлет их более двухсот. И об алмазе «Южная звезда», который был уже доставлен из Бразилии в Европу владельцем его Гельфеном, весил двести сорок четыре карата, а ограненный будет весить вдвое меньше, но и при этом условии все-таки явится достойным соперником ко-и-нура — «Горы света», который был три года назад украшением лондонской выставки, — Пальмерстон тоже, конечно, читал в газетах, но он читал также и то, что самая выставка в Париже отменяется вследствие войны.
Теперь же ему было более чем приятно услышать от самой императрицы Франции, что война — войною, а выставка — выставкой и что как было предположено первоначально, так и будет: выставка откроется непременно 1 мая 1855 года, к чему уже теперь Париж готовится весьма деятельно: расширяются магазины, отели, рестораны, столовые, предусматривается вообще все, чтобы принять наплыв большого количества экспонатов и посетителей из других городов Франции и остального мира.
Это сообщение сулило Пальмерстону успех в предстоящих ему переговорах с Наполеоном: если Франция так могуча, что война в Крыму нисколько не отражается на ее внутренней жизни, то что стоит ей отправить на Восток достаточное количество подкреплений, чтобы в непродолжительном времени добиться решительной победы?
Императрица Евгения очаровывала его с каждой минутой сильней и сильней, но он не мог сказать самому себе того же о Наполеоне. Этот казался таинственным, загадочным сфинксом: весьма тщательно и долго обдумывал он каждую свою реплику, точно не говорил, а играл в шахматы, и в каждой деловой фразе его непременно была какая-нибудь неопределенность, которую можно толковать так или иначе, смотря по личному вдохновению.
И когда, наконец, он остался с монархом Франции один на один в его кабинете, он чувствовал себя не совсем уверенно.
Здесь почему-то даже самая внешность Наполеона «маленького», — его несоразмерно длинная талия при коротких ногах, его излишне прищуренные, явно прячущиеся глаза, его неторопливая и не в полный голос речь, таившая настоящий смысл свой где-то вдали, за словами, — все это обескураживало несколько Пальмерстона, несмотря на его огромную опытность и способность никогда не теряться и выходить из любых положений победоносно.
Но его не зря называли актером на любые роли: наблюдая собеседника, он исподволь заимствовал его жесты и почти непроизвольно начал щуриться сам, не упуская при этом все же ни одной тени на лице Наполеона, как бы мгновенно она ни пробегала по его лицу.
Теперь, наедине, разговор шел уже исключительно о войне и ее непредвиденных трудностях.
— Вашему величеству, несомненно, гораздо известнее, чем мне в данное время, когда я уже не ведаю иностранной политикой и не стою у кормила военных дел, положение наших армий под Севастополем, — говорил Пальмерстон, старательно округляя фразы. — По мнению сведущих лиц в Англии, оно… оставляет желать лучшего. Я отказываюсь приписывать наши неудачи нашим главнокомандующим. И лорд Раглан и генерал Канробер — люди весьма опытные в военном деле, и я уверен, что они со своей стороны сделали все, что могли сделать, однако после трех месяцев осады результаты получились очень скромные, чтобы не сказать печальные… В особенно же неблагоприятном положении оказалась английская армия, так как она — ближайшая к армии князя Меншикова и первая получает удары при его атаках.
Это весьма сказалось уже в двух сражениях, особенно в Инкерманском, но кто же может дать гарантии, что нашу армию не ожидает в ближайшее же время еще атака, притом гораздо сильнейшая? Тогда, ваше величество, она при всем своем мужестве, при всей своей стойкости может совершенно перестать существовать, о чем даже подумать страшно!.. Между тем нельзя же сказать, что мы не делали всего, что могли сделать, чтобы поддержать, чтобы предохранить нашу армию, чтобы снабдить ее всем необходимым! Нет, мы сделали все, что было в наших силах, однако армия наша тает, стремительно, неудержимо тает, и в последние недели даже не столько от русского оружия, сколько от болезней, сколько от этого ужасного русского климата, совершенно непривычного для наших офицеров и солдат…
Тут Пальмерстон сделал маленькую паузу, какие были свойственны ему и тогда, когда произносил он парламентские речи, так как первоклассным оратором он не был.
Этой паузой его воспользовался Наполеон, чтобы сказать совершенно непроницаемым, спокойным тоном:
— По донесениям, какие получил я, английские батареи против Редана [20] и других русских бастионов совершенно почти замолчали двадцатого ноября, а с двадцать четвертого несколько дней не могли сделать ни одного выстрела, потому что иссяк запас снарядов. Приходилось даже подбирать русские ядра, если они подходили по своему калибру к английским орудиям.
19
Орлеаны — ветвь королевской династии Бурбонов во Франции. Один из Орлеанов — король Луи-Филипп — был свергнут во время революции 1848 г .
20
Реданом французы и англичане называли третий бастион.