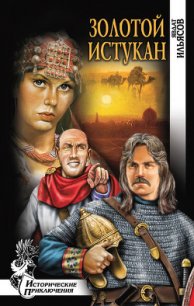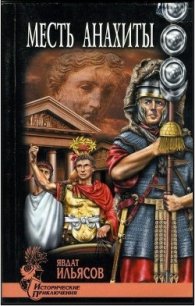Башня молчания - Ильясов Явдат Хасанович (книги регистрация онлайн txt) 📗
– Ты умный и добрый. Прости его.
– Как не простить? Я всех прощаю.
Расстелили скатерть.
– Зря ты чураешься меня! – сказал поэт, когда они обильно поели и Омар выпил вина. – Если кто и вспомнит когда-нибудь о тебе, то только потому, что ты был женат на моей сестре.
– А о тебе-то… вспомнит кто когда-нибудь? – съязвил обиженный зять.
– Еще как! Куда я денусь? Им уже не отвертеться от меня. Ладно, захаживайте. Иногда…
Он дал им сто динаров. Они ушли довольные.
– У входа вас ждет паланкин. Или, может, пройдемся пешком? День чудесный.
– Я редко выхожу из медресе, – вздохнул Газали, должно быть, уже жалея, что согласился пойти к Омару в гости.
– Надо бы чаще, – взглянул Омар на его бескровное, белое, как баранье сало, лицо. – Свежий воздух, знаете…
– У меня от свежего воздуха кружится голова.
– Я вас поддержу.
– Хорошо, немного пройдемся. Но этих не отпускайте, – кивнул богослов на молодых здоровенных носильщиков, приготовивших крытые нарядные носилки. – Пусть следуют за нами.
– Идите поодаль за нами, – распорядился Омар. – Может статься, его милость устанет.
– Ваша воля, сударь…
Ясный день, золотистый, синий, с теплым ветром раннего лета. Если зимой мир сер и тесен, и темное небо давит на плечи, и во рту оседает сырая мгла, то теперь оно, небо, взметнулось в неимоверную даль, мир развернулся и весь раскрылся, необъятный и радостный.
Но Газали все ежится. Ему холодно в этом огромном солнечном мире. Он не смотрит на небо. Он, опираясь на палку, смотрит в землю и упорно думает о чем-то своем. Наверно, о нем же, о небе. Ведь богословы только и толкуют, что о небе. О чем же еще. Хотя никогда не взглянут на него. Ибо свет его режет им глаза, привыкшие к сумраку затхлых келий.
Тот самый свет, который не сходит с их языка: «Бог это свет небесный», «вера – свет сердца», «знание – свет»…
Омар почтительно вел его под локоть. Медресе находилось на главной площади Нишапура, мощенной круглым камнем; улицы здесь ухожены, обсажены ивами и тополями. Людное место. Встречные низко кланялись Газали, целовали его руку. Велика его слава как богослова.
Омара Хайяма никто не замечал. Разве что у Большого базара, у спуска в харчевню «Увы мне», увидев его, оживились пропойцы-бездельники.
Он украдкой сунул им золотой: «Отвяжитесь».
– Что это за люди? – проскрипел Газали.
– Это… те самые, для которых уготован огненный ад, – усмехнулся Омар. – Только вот не знаю, смогут ли они гореть: насквозь промокли от вина, – все равно, как сырые поленья. Я полагаю, сухим ханжам адский огонь опаснее…
– И ты знаешься с подобным сбродом?
Как бывает у старых знакомых, которые долго не виделись, они то переходили на осторожное «вы», то возвращались к давнему «ты».
– Почему бы и нет? Они тоже были когда-то людьми. И, быть может, хорошими. У них было светлое детство, – детство всегда нам кажется светлым, даже самое собачье, – была юность с мечтами и надеждами. Что из них получилось, сам видишь, а почему – не спрашивай, – вспомнил Омар слова Давида, сына Мизрохова. – Не все человеческие судьбы укладываются в четыре суфийских разряда: «шариат», «тарикат», «марифат» и «хакикат». Я, например, становлюсь самим собой только когда работаю. Положил перо, встал – и превратился тут же в пустой бурдюк, который следует как можно скорее наполнить вином. Боюсь, меня тоже не пустят в рай. Вот я и завожу знакомства здесь, на земле, чтобы угодить на том свете в свою компанию…
– Ах, погибнешь, погибнешь! Опомнись, пока не поздно. Спасение падших – на пути, которым идут люди нашего братства.
Омар яростно стиснул зубы. Он ненавидел это братство! Из-за отца. Это они, словоблуды, сбили с толку трудового, простого и честного человека и довели его до того, что он умер, как бродячий пес, на пороге дервишской обители…
– Я, грешный… равнодушен к суфизму. Он слишком утончен для меня. Он требует полной отрешенности от человеческих желаний. У меня же много грубых страстей, которые я, несчастный, одолеть никак не в силах. Зато, – может быть, тебе пригодится, – у меня есть мальчик-слуга, сирота. Подобрал на базаре. Невзгоды юности настроили его на серьезный лад, и он живо интересуется вашим учением…
Газали встрепенулся. Завербовать для общины нового сторонника – мюрида – заманчиво. Юная душа, едва лишь тронутая житейской грязью. Ее можно очистить и придать ей божественный блеск…
Газали, остановившись и сунув палку под мышку, лихорадочно потирал костлявые руки.
– Мне не терпится увидеть его! Подзови этих. Поспешим…
Омар сделал знак носильщикам.
Мальчик, открыв калитку, сложил ладони вместе и низко склонился перед Газали. В белом тюрбане, в широкой белой куртке, в узких белых штанах, – это понравилось богослову, так как соответствовало его суфийским понятиям о чистоте.
Так и встретились они, оба белые, как пеликан и чайка в заливе Каспия…
Газали пытался заглянуть слуге в лицо, но тот скромно прятал его. И это понравилось Газали. Не совсем испорчен…
Хозяин и слуга помогли почетному гостю взобраться по лестнице в жилье.
Басар, лежавший в сторонке, сперва было заинтересовался новым человеком, но затем скучающе отвернулся. Даже с места не встал. Ничего особенного. Что-то белое и невзрачное. Во всяком случае, для хозяина не опасное.
Газали усадили на мягкой подстилке, набросали ему под локоть круглых подушек.
– Я кухней займусь, – сказал Омар. – А вы пока знакомьтесь… Его зовут Хамидом, – кивнул поэт на мальчишку. – Так что, Абу-Хамид, можешь считать его сыном…
Арабская приставка «Абу» к имени означает «отец такого-то», но человек не обязательно имеет ребенка с этим именем. Она указывает, скорее, на возможность мужчины быть родителем сына или дочери с теми или иными достоинствами. Так уж принято. «Абу-ль-Фатх», например, второе имя Омара, переводится как «Отец завоевателя». Хотя никаких детей, тем более, завоевателей, у Омара Хайяма нет и теперь уж, пожалуй, не будет.
Мальчик, как положено слуге, пошел проводить его к выходу.
Омар заскрипел ступеньками лестницы. Хамид обернулся у двери, – Газали беззвучно ахнул и откинулся на подушки. Огромные черные глаза с крылатыми бровями. Слуга тут же потупил их. Будто ласточка мелькнула. Богослов не успел уловить их выражение. Морозная дрожь прошла по его костлявому телу…
– Удобно ли вы устроились? – Голос задумчивый, нежный, замирающий на последних звуках как будто где-то вдали…
И вновь – огромные черные очи. Поэты называют их агатовыми. Газали видел такие на миниатюрах. И с презрением отворачивался от них. Художники лгут. Чтобы приукрасить эту мерзкую жизнь. Таких глаз не бывает у живых земных женщин, этих гнусных тварей. Они возможны только у райских гурий.
Откуда же они у этого мальчишки? Газали охватило смутное беспокойство. Их выражение? Ожидание. Искательность и готовность. Которую он, настроенный на назидательную беседу, истолковал как готовность внимать слову божью.
Из-под тюрбана, как змея из-под белого круглого камня, на румяную гладкую щеку вылезла прядь вьющихся черных волос. Личико – худенькое, совсем еще детское. Детский носик. И рот – пухлый, детский, наивный. Лишь темная поросль на верхней губе да странное подрагивание придавали этим невинно-алым губам некую, чуть уловимую, порочность…
Мальчик принес из передней скатерть, развернул, расстелил ее. Газали, озадаченный, следил за его проворными руками, за тонкими ловкими пальцами, которые за любой предмет брались с особым значением, как за вещь, тайно ему известную.
Но больше всего смущал богослова вихляющий зад: сам мальчишка тонкий, легкий, а зад у него совсем не мальчишеский. И он, наклоняясь, опускаясь на колено или вставая и разгибаясь, как нарочно выставляет его самым бесстыдным образом.
Тьфу! Непотребство.
Хамид принес стопку румяных лепешек, кувшин с молоком и глубокую миску со сливками. Затем поставил на скатерть большое медное, вычищенное до блеска блюдо с ранними плодами. Блюдо до ободка выстлано крупной спелой черешней, а в середине, горкой, желтые абрикосы. Хорошо смотрится – темно-красное с желтым. Как рубин с янтарем…